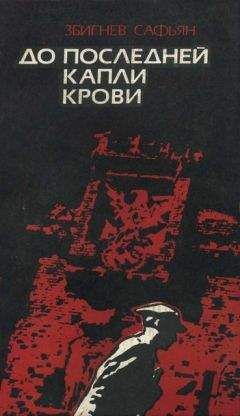Андрей Молчанов - Схождение во ад
Из показаний Оттона Волькена, врача из Освенцима.
Нюрнбергский процесс.
ФРИДРИХ КРАУЗЕ
...На ужин Роланд разогрел консервированную ветчину и пожарил картофель.
Скудная пища военного времени, равно как и другие лишения, переносились Краузе с равнодушной невозмутимостью; он был неприхотлив по самой своей природе, и если имел какую-то слабость - то разве склонность к долгому сну, но даже не в силу каких-либо физиологических особенностей организма; в своих снах он подчас попадал в удивительные миры, чья невероятная реалистичность ничем не отличимая от яви, вначале повергала его в изумление и трепет, но вскоре его путешествия в мир видений стали привычно-повседневными, он уже выработал четкие ориентиры и шел порою знакомыми дорогами в неведомых, зачастую мрачных и грозных пространствах, ощущая рядом присутствие т е х, кто хранил и оберегал его, слыша их неясные голоса и даже различая их ломкие лунные тени, что вскоре обретут для него плоть, когда преодолеются им оковы привязанности к трехмерности земного бытия, и тогда далекие странные города с усеченными пирамидами нагроможденных друг на друга башен, видимые им издалека, отделенные покуда непреодолимым рубежом, откроют ему великие тайны своих обитателей.
- Пожалуй, я начну топить дом, штандартенфюрер?
Краузе кивнул, неотрывно глядя на пламя горевшей на столе свечи.
С розетки серебряного подсвечника потянулся, волнисто отвердевая, матовый восковой сталактит.
- Уголь в подвале, Роланд. Корзина там же.
Шофер загромыхал подкованными сапогами на каменной лестнице, винтом уходящей в подземелье дома.
Краузе хищно прищурился, вслушиваясь в едва доносившийся до него перестук ссыпаемых лопатой в корзину угольных брикетов, затем Роланд закашлялся - видимо, от попавшей в горло подвальной пыли и, наконец, раздалась тяжелая поступь шофер возвращался с нагруженной корзиной наверх.
Краузе упруго поднялся со стула, шагнув к выходу из подвала.
Роланд уже был на середине лестнице, представляя собою прекрасную мишень, но неискушенного в стрельбе Краузе смутила широкая, плетеная из ивняка корзина, которую тот держал на уровне груди и, чтобы попасть точно в голову, он выждал, когда шофер сделает еще пару шагов; потом, резко сунув за пазуху руку, нащупал рукоять пистолета, дернул ее, вынимая оружие и вдруг с ужасом ощутил опалившее грудь пламя, жгучее проникновение пули в плоть, а уж после, старательно пытаясь не завалить неповинующееся, будто чужое тело в сумрачный зев подземелья, ускользающим сознанием уловил - как вспомнил, неясный звук выстрела...
Дилетант Краузе, не поставив пистолет на предохранитель, в спешке нажал на курок и теперь лежал, неестественно вывернув руку, в узеньком коридорчике рядом с кухней, и шелковая, кремового цвета подкладка его форменного кителя постепенно набрякала кровью...
ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛА АВЕРИНА
Первые дни своего пребывания в Германии Миша провел в Кельне, поселившись в маленькой семейной гостинице "Элштадт", что располагалась на старинной, чудом уцелевшей после бомбежек прошлой войны улочке, неподалеку от набережной грязноватого быстрого Рейна.
Он как бы попал в иной мир, где вся прошлая жизнь представлялась кошмарным сном; мир восторженного созерцания готического чуда Кельнского собора с древним мрамором могильных плит, водруженных над прахом тевтонских рыцарей, бело-красными ризами священников, тысячами свечей, тепло и ровно горевших под монументальными сводами каменного исполина; мир чистых, сверкающих зеркальными витринами улиц, уютных кабачков, пиццерий и ломящихся изобилием товаров магазинов.
В Кельне он оказался случайно, взяв билет на самый ближайший рейс, улетавший в Германию, ибо находился в лихорадке горячечного страха от всего им содеянного, под властью единственной мысли: бежать куда угодно и как можно скорее.
Теперь же, неспешно побродив в безмятежности города, Михаил возвращался в отель, где, лежа на чистеньких голубых простынях, листал книги из гостиничной библиотеки на недоступном ему немецком языке, пил легкое сухое вино, наслаждался фруктами, отдавая предпочтение крупному черному винограду, чьи терпкие плоды давил языком о небо, долго смакуя упругую мякоть ягоды; и, наконец, засыпал, умиротворенно прислушиваясь к шуму толпы, всю ночь сновавшей по усеянной пивнушками улице.
Он просто отдыхал, даже не пытаясь строить каких-либо планов на будущее, но, по прошествии недели, бытие туристаротозея начало приедаться, уступая место размышлениям над дальнейшей своей судьбой.
Красивая и благоденствующая Германия оставалась чужой и непонятной. Никого тут Миша не знал, его ломаный английский язык был явно недостаточен для общения, к тому же, далеко не все немцы английским владели, а потому желалось Мише улететь отсюда в Америку, поближе к приятелю Боре Клейну, кто в последнем телефонном разговоре клятвенно заверял Михаила в дееспособности присланного им американского паспорта, однако соглашался, что, задай чиновник иммиграционных служб пару вопросов указанному в документе лицу - а именно - некоему Эрику Вуду, то получить от него ответы можно будет лишь на уровне междометий.
Нет, рисковать столь крупно Миша не жаждал. Избежав российской тюрьмы, удачно вывезя деньги и ценности, угодить в американскую каталажку, да еще с перспективой депортации? Чтобы в аэропорту конечного назначения, продвигаясь к выходу в каре пограничников и милиции, узреть лицо встречающего его Дробызгалова? Спасибо...
Да, влекла Мишу американская сказка, мнился ему волшебный Брайтон-Бич - центр русскоязычной еврейской колонии, где, под эмигрантские мелодии и напевы, все как один счастливы и дружны, пьют в блеске витрин и бриллиантов сытые его собратья-перебежчики шампанское с русской водкой, и уж они-то всегда готовы протянуть руку помощи, не говоря об элементарной моральной поддержке...
Миша не представлял себе маленькую полутрущобную улочку с мостом "подземки", тесные ресторанчики, поток прохожих, где очень редко различишь русское лицо, - очерченный океанским прибоем краешек задворок Америки. Жалкое гетто.
Здесь, в Кельне, Миша находился в центре культуры, благополучия, хорошего вкуса, традиций и даже большего изобилия.
Но Миша того не ведал. Однако интуитивно решился он на грамотный и простенький, в общем-то, шаг: сдаться властям, как политический беженец. И сдался, угодив из уюта гостиницы на казенную койку спецобщежития, где очутился в компании югославов, поляков, цыган и румын - публики темной интеллектуально, к антисанитарии привычной с детства и тюрьму считавшей вполне подходящим местом для передышки между своими криминальными мероприятиями.
В отличие от основного контингента, Миша не бузил, алкоголя и наркотиков не употреблял, воровством в магазинах не промышлял, а жил в соответствии с предписанным режимом, вежливо раскланивался с комендантом, консультируясь у него частенько по поводу тонкостей немецкого языка, усердно им изучаемого, ходил с вымытой головой и в чистой рубашке, что, конечно же, производило благоприятное впечатление на администрацию, нечасто встречавшую в этих стенах столь нравственного и интеллигентного персонажа.
Легенда Миши как политического беженца также отличалась изящной незамысловатостью: дескать, виною была страстная любовь, чей результат выразился в лишении им девственности дочери начальника районного КГБ, кто, в свою очередь, узнав о данном торжестве плоти, от брака дочери с сыном осужденного партийного работника категорически отказался, и , из соображений слепой отцовской мести, подвергнул Мишу уголовному преследованию за надуманные валютные операции, используя при этом свой авторитет в карательных структурах власти.
Еще пышно цвел пустоцвет "перестройки", еще стояла Берлинская стена, возле которой лишь начинали бушевать страсти, и шустрый как веник Горбачев сновал по Европе, встречаясь-раскланиваясь-болтая, запечатляя иудины поцелуи на старческих щеках ракового больного Хонеккера; еще проникновение русских на Запад исчислялось разрозненными единичными экземплярами, а потому Миша Аверин, оказавшийся в привилегированном в то время меньшинстве, без особенных хлопот получил постоянную прописку на немецкой земле и влился, а точнее, - вклинился в свободное, как ему тогда казалось,западное общество.
Активный и свободолюбивый коммерсант по натуре, он же - следуя прошлой совдеповской терминологии - "махровый спекулянт", Михаил быстро уяснил, что приложение своим силам среди закормленных бюргеров навряд ли найдет.
Перепродажа дефицитного товара в тоталитарном Союзе не требовала особенных физических и умственных усилий; необходимым условием для этого являлась лишь отвага и пренебрежение коммунистической моралью; здесь же подобное поощрялось, однако было сопряжено с вкладом в дело немалого капитала, налогами, бухгалтерской волокитой, изучением рынка и весьма скромными в своем итоге дивидентами, если и не откровенным прогаром бизнеса, поскольку выдержать конкуренцию в условиях всеобщего изобилия - задача нелегкая.