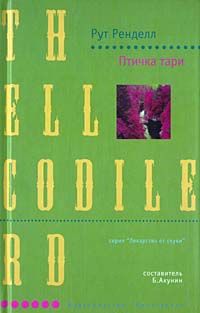Рут Ренделл - Птичка тари
Если в то время она еще не могла оценить красоту, то освещение она оценила, потому что свет заливал все уголки дома. В нем не было ни одного темного угла или сумрачного коридора. Даже когда не сияло солнце, как это было в тот день, ясный кристально чистый свет наполнял каждую комнату, и все вещи сверкали — хрусталь и фарфор, серебро, и медь, и позолота на лепнине и на карнизах. Самую большую лестницу украшали цветы и фрукты, вырезанные по дереву по обеим ее сторонам, и резьба ярко блестела, но Лиза думала тогда только о том, как ей хочется скатиться вниз по полированным перилам.
Они ушли около четырех часов, как раз к уроку чтения.
— А мистер Тобайас никогда не живет там? — спросила Лиза, беря мать за руку.
— Никогда. Его мать жила какое-то время, а его дед жил постоянно. У него это был единственный дом. — Она задумчиво посмотрела на Лизу, как бы взвешивая, пришло ли время рассказать ей. — Моя мать, твоя бабушка, была его экономкой. А потом его сиделкой. Мы сами жили в сторожке, мама, отец и я. — Мать сжала руку Лизы. — Ты слишком мала, чтобы все понять, Лиззи. Посмотри на ясень, видишь зеленого дятла? Он сидит на стволе, добывает своим клювом насекомых. — Так что если день, когда пришел бородатый мужчина, получил название Дня зимородка, этот день первого посещения Шроува стал Днем дятла.
После этого Лиза всегда ходила с матерью в Шроув, и теперь, когда мать уезжала в город на автобусе, она не запирала Лизу в ее спальне в сторожке, а оставляла ее в одной из спален Шроува.
Чаще всего это была та, что называлась Венецианской комнатой, потому что там стояла кровать с четырьмя столбиками, сделанными из шестов, которым пользуются гондольеры в Венеции, как объяснила мать. К тому времени Лиза уже научилась хорошо читать, ей было пять лет, и она брала с собой в комнату настоящую книгу. Она нисколько не боялась, когда ее запирали одну в Венецианской комнате Шроува, она больше не побоялась бы остаться и в своей спальне, и она спросила мать, почему та оставляет ее в Шроуве, а не у них дома.
— Потому что в Шроуве есть центральное отопление, а у нас нет. И я могу быть уверена, что ты не замерзнешь. Они не выключают отопление всю зиму из-за влажности, даже если там никто не живет. Если дом отсыреет, мебель может испортиться.
— Почему всегда заперта маленькая комната рядом с маленькой столовой?
— Разве? — спросила мать. — Я, кажется, потеряла ключ.
Шроуву предстояло стать ее библиотекой и ее картинной галереей. Больше того: картины являлись для нее справочником и каталогом человеческих лиц. С ними сверяла она свои впечатления и догадки. По ним познавала внешний мир. Вот так выглядели другие люди, вот что они носили, вот на каких креслах сидели, вот как выглядят страны, в которых они жили, вещи, которые окружали их.
В разгар холодной зимы, такой холодной, что замерзла река и заливные луга исчезли под снегом на целый месяц, черная машина с цепями на шинах осторожно съехала на проселочную дорогу и остановилась в глубоком снегу около сторожки. Внутри сидели двое мужчин. Один остался в машине, а другой подошел к передней двери и позвонил в колокольчик. Он был толстым, с венчиком волос вокруг белого и голого, как яйцо, темени.
По счастливой случайности, Лиза с матерью, сидя рядышком у окна материнской спальни, наблюдали в то время за птицами, которые клевали в кормушках, развешанных на ветвях бальзамника. Они видели, как подъехала машина и мужчина подошел к двери.
— Если он что-нибудь спросит у тебя, ничего не говори, отвечай только: «Не знаю», — предупредила мать, — и можешь немного поплакать, если захочешь. Тебе это, вероятно, понравится, тебя это развлечет.
Лиза так и не поняла, кто был этот толстяк. Конечно, позднее у нее возникли предположения. Он сказал, что ищет пропавшего человека, мужчину, которого звали Хью такой-то. Она забыла его фамилию, но имя Хью запомнила.
В прошлом июле Хью приехал сюда из Суонси на отдых — побродить в здешних местах пешком, но ушел из дома, где снимал койку, не заплатив за двое суток. Толстяк много говорил о Хью и о том, почему они разыскивают его и что заставило их приняться за поиски через полгода после его пропажи, но Лиза ничего не поняла. Он описал Хью, это Лиза поняла, она запомнила его белокурую бороду и клочья этой бороды в пасти Руди.
— Мы живем здесь очень тихо, инспектор, — сказала мать. — Практически никого не видим.
— Одинокое существование. — Что кому нравится.
— И вы не видели этого человека? — Он показал матери что-то у себя на ладони, и мать, посмотрев, покачала головой. — Он не встречался на дороге или тропинке?
— Боюсь, что нет.
Подняв голову, мать пристально смотрела в глаза толстяка, отвечая на его вопросы. Став старше и опытнее, Лиза не раз мысленно возвращалась к этому эпизоду и думала, как, должно быть, поразила толстяка внешность матери: полные красные слегка приоткрытые губы, большие глаза блестят, кожа матовая, а выражение лица… о, такое обаятельное и искреннее. Ее роскошные волосы рассыпались по плечам, густые, темно-каштановые, блестящие, они прикрывали ее, как шелковая накидка. А к нижней губе прижат маленький белый пальчик.
— Мы так, на всякий случай, — сказал толстяк, он пожирал ее глазами, но все же ему пришлось отвести взгляд и обратиться к Лизе: — Юная леди вряд ли его видела, не так ли?
Ей показали фотографию. Если не считать гравированных портретов в материнских книгах, это была первая фотография, увиденная Лизой, но она не призналась в этом. Она посмотрела на лицо, которое так напугало ее и которое рвали в клочья клыки Хайди и Руди, посмотрела на него и сказала:
— Не знаю.
Слова эти насторожили толстяка.
— Так ты, возможно, его видела?
— Не знаю.
— Взгляни еще раз, милочка, посмотри внимательнее и попытайся вспомнить.
Лиза испугалась. Она подвела мать, сделала все, как та сказала, но все равно подвела ее. Лицо того мужчины внушало страх, бородатого мужчину звали Хью, он был злым и насмешником, и кто знает, что он сделал бы, если бы мать не…
Ей не пришлось притворяться, что она плачет.
— Не знаю, не знаю, я не знаю! — закричала Лиза и разразилась слезами.
Толстяк уехал, извинившись перед матерью, обменявшись с ней рукопожатием и надолго задержав ее руку в своей. А когда он уехал, мать расхохоталась. Она сказала, что Лиза была великолепна, просто великолепна, и крепко обняла ее, и все смеялась, прижав к себе ее голову, она любила Лизу и восхищалась ею, но мать не поняла, что Лиза была действительно напугана, действительно боялась людей, действительно была сбита с толку.
Водителю долго не удавалось завести двигатель, и еще больше времени ушло на то, чтобы вывести машину из сугроба, поскольку колеса ее буксовали. Лиза успокоилась и повеселела. Они с матерью наблюдали с большим интересом за усилиями шофера из окна спальни.
Снег сошел, и наступила весна. Большинство деревьев были хвойными и потому не изменились, они круглый год так и оставались зеленовато-черными или дымчато-голубыми, но лиственницы и болотные кипарисы покрылись новыми иголками — словно новым мехом — бледными, нежно-зелеными ворсинками. Мать объяснила, что лиственницы тоже листопадные хвойные и единственные хвойные деревья, родиной которых являются Британские острова.
Под живыми изгородями появились веселые круглые желтые примулы, а возле деревьев расцвели россыпи бархатно-пурпурных фиалок. На полянах в лесу выросли лесные анемоны, которые также называют лютиками, — цветы с лепестками, похожими на тонкую бумагу. Мать учила Лизу стараться не называть их «аненомами», как делают многие, хотя им следовало бы знать, как правильно произносится это слово. Но Лиза мало с кем разговаривала, кроме матери, так что едва ли она могла усвоить неправильное произношение.
Если не считать почтальона, с которым не обсуждались вопросы ботаники, разговаривала она лишь с молочником, который не замечал ничего, кроме поездов и погодных изменений. А также истопника, который приезжал в марте, чтобы наполнить горючим обогревательный бак Шроува. И мистера Фроста, садовника, который подстригал траву и приводил в порядок живые изгороди, а иногда выпалывал сорняки.
Мистер Фрост продолжал отмалчиваться. Они видели, как он проезжает мимо сторожки на велосипеде, и если он замечал их, то махал рукой. Он махал им и со своей газонокосилки, если случайно оказывался поблизости, когда они шли по дорожке к Шроуву. Истопник приезжал только два раза в год, в сентябре и в марте. Лиза ни разу не разговаривала с ним, хотя мать и уделяла ему минут пять, чаще только слушая нетерпеливо, пока он рассказывал ей о своей квартире в Испании и о том, как он нашел рейс на Малагу, где билеты стоят так дешево, что даже поверить трудно. Лиза не понимала, о чем идет речь, поэтому мать объяснила ей, что он пересекает море на одной из тех штуковин, которые иногда проносятся над головой и создают страшный шум, так не похожий на птичий гам.