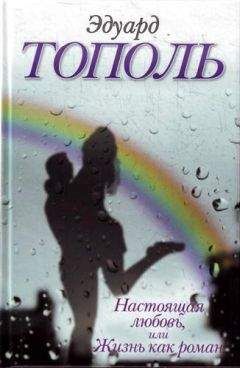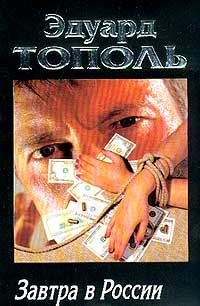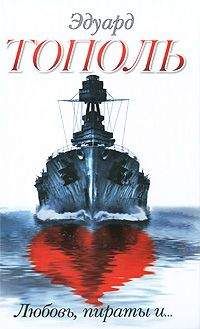Эдуард Тополь - У.е. Откровенный роман...
Больше мне в Нижнем Новгороде делать было нечего, страсти вокруг предстоящей избирательной кампании нижегородского мэра меня не интересовали. И, поужинав в ресторане «Подкова», где пиво было настоящее, бочковое, я с чувством выполненного долга отбыл ночным поездом в Москву.
Что у меня было?
Смотрю в свой рабочий блокнот, читаю документально:
1. Кристофер Рафф, тел. 290 53 17, звонить и спрашивать, не появлялась ли Полина.
2. Старшина Косинский, участковый, телефон в Нижнем – 45 32 12. Там же: начальник почтового отделения Шува Николай, тел. 45 44 21. Звонить обоим и спрашивать относительно письма Суховеям.
3. Екатерина Ковалева, проводница, поезд «Нижний Новгород – Москва», вагон 9. Из Москвы отбывает по вторникам, четвергам и субботам, Курский вокзал, четвертая платформа, поезд подают в 22.50.
Если первые две подводки к Полине были весьма ненадежны, то на третью я рассчитывал стопроцентно. Подина, как я понимал, содержит родителей и брата и, следовательно, должна явиться на вокзал не сегодня, так завтра. А потому по вторникам, четвергам и субботам ровно в 22.50 я был на Курском. Здесь я обнаружил, что с четвертой платформы целых три подземных перехода к вокзалу, и, следовательно, дежурить, чтобы не упустить «объект», нужно у самого вагона Кати Ковалевой – но так, чтобы не привлекать к себе ее внимания.
Поэтому, приехав на вокзал, я шел к первому вагону поезда «Москва–Ростов», отбывавшему с соседнего пути одновременно с нижегородским. Показав проводнику свою фээсбэшную ксиву, я сухо говорил, что мы ищем кой-кого, и шел по вагонам ростовского поезда до восьмого вагона, чтобы очутиться как раз наискосок от девятого вагона нижегородского экспресса. Тут, в тамбуре ростовского поезда, был мой НП.
Но пассажиры самых разных мастей – деловые из мягких вагонов и попроще, из купейных; одиночки и компании; трезвые и не очень – прощались с провожающими, поднимались в вагоны и убывали в Нижний, а Полины все не было.
Ее не было ни в мое первое дежурство, ни во второе, ни в третье.
Рыжий звонил уже дважды, мне нечего было ему сказать, и он начинал злиться и терять терпение. Как всякий новый русский, он считал, что за деньги можно иметь все сразу и на блюдце с золотой каемкой.
Между тем я не прохлаждался. Составив полный список журналов мод, их фотографов и модельных агентств, я обходил их один за другим, всюду показывая фото Полины и надеясь, что рано или поздно (но лучше бы рано!) что-то обязательно всплывет – какая-то зацепка, деталь, имя, ниточка.
Однако ничего не всплывало. Кто-то из фотографов вспоминал, что снимал эту Полину три года назад, кто-то – что еще раньше. Но где она сейчас, не знал никто.
А время шло, и я медленно, но верно опять возвращался в свою депрессию. Блин, если я – Битюг! – не могу найти какую-то девку в Москве! – я, который в камере Нижнетагильской тюрьмы на глазах у четверых воров в законе на спор пырнул сам себя заточкой в живот и стал после этого их «братом», вытащив таким образом из них данные обо всей воровской элите в СССР, я, который разоблачил первые чеченские аферы с авизо и еще двадцать, если не больше, крупнейших афер и схем увода за рубеж денег от криминальной приватизации огромных ломтей промышленности, – то, значит, я действительно вышел в тираж…
По ночам мне уже не помогали даже снотворные таблетки. Я крутился в постели, клял себя, пил на кухне новопассит, сосал вернисон и принимал валокордин, чай с коньяком и снова валокордин, но сна не было. На хрена Рыжему эта гребаная Полина? Почему Кожлаев перед смертью был готов заплатить десять тысяч долларов за встречу с ней? И чем мог Рыжий так напугать Полину, что она даже съехала с квартиры? И почему Кожлаев именно меня нанимал искать эту Полину?
На десятый, кажется, день я, уже ни что не надеясь, а лишь следуя своему принципу копать, пахать и утюжить все и вся, вошел в офис модельного агентства «Ред старс», что в одном из переулков на Покровке. Это было то самое «Ред старс», куда я звонил три недели назад и где мне сказали, что не знают никакой Полины Суховей. Но теперь, когда я побывал в трех подобных агентствах – «Премьер», «Империя» и «Престиж», я уже знал, как в этих агентствах работают и как там отвечают по телефонам: секретарши, то есть несостоявшиеся юные модели (или, наоборот, перезрелые и вышедшие в тираж, как и я, только в возрасте тридцати лет), беспрерывно висят на телефонах, разговаривают одновременно с Киевом, Томском и Салехардом, курят, крутят вертушки с адресами и телефонами своих клиентов, пишут какие-то короткие цидульки манекенщицам-моделям, дожидающимся отправки на кастинги и фотосъемки, и при этом крошечным рашпилем подпиливают свои ноготочки…
Здесь, в «Ред старс», было практически то же самое. Дюжина длинноногих нимфеток в мини-юбках, с кукольными лицами поднебесных ангелов и с сигаретками в наманикюренных пальчиках слонялись по коридору и двум комнатам офиса. Три секретарши, листая вертушки с регистрационными карточками, разговаривали по телефонам на трех языках с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Возле их столов в заискивающем ожидании томились две сорокалетние дамы с портфолио своих рослых тринадцатилетних дочек, которые завистливо зырились на моделей и фотографии преуспевших красоток в журналах «Look», «Elite» и «Cosmopolitan», развешанных на стенах.
Ожидая хоть минутного просвета в этих беспрестанных телефонных монологах, я обратил внимание на небольшую матовую дверь в еще одну комнату и решил, что там какая-нибудь подсобка, гримерная или место, где девочки переодеваются. И вдруг из этой двери вышел худощавый носатый мужчина, и мы оба воззрились друг на друга в изумлении и оторопи.
Это был Абхазец, а точнее, Абхаз, с которым мы не виделись – Господи, с какого же года? с 1979-го? 80-го? Как раз тогда я, безумный идиот-романтик андроповского призыва, сам подсел в тюрьму, в камеру к ворам в законе. Сейчас уже и не вспомнить, как мне тогда пришла в голову идея выдать себя за московского блатаря, но именно этот Абхаз не верил мне до последнего момента, и только тогда, когда я, якобы в бешенстве и обиде, пырнул сам себя заточкой в живот и меня, окровавленного, утащили в больницу, – только после этого, вернувшись через неделю в камеру, я был принят за своего, и Абхаз назвал меня своим братом.
В то время это весило больше, чем сегодня звание Народного артиста России.
Но с тех пор я не видел Абхаза, не слышал о нем и думал, что его давно убили в разборках, как почти всю бывшую гвардию… А он, оказывается, жив, но, Господи, что с ним сделало время! Неужели и я превратился в свою тень, неужели и от меня остались только глаза?
Впрочем, костюм на Абхазе был получше моего, а на руке – часы «Брегетт» стоимостью под шесть тысяч долларов…
Он перехватил мой взгляд и усмехнулся:
– Брат, пойдем пива выпьем. За встречу. Я угощаю.
И вот мы сидим в какой-то недорогой шашлычной на Петровке, пьем «Жигулевское № 6», и я слушаю его эпопею.
– Я, – сказал мне Абхаз, – еще тогда, как вышел из лагеря, понял, что нужно завязывать, что перестройка все в этой стране сломает, даже нас, и беспредел будет не только в криминальном обществе, но во всем – в политике, экономике, даже в искусстве. Нельзя выпустить из лагерей сразу несколько миллионов человек и думать, что они тут же станут демократами. Страну затопила волна беспредела, мы, старые авторитеты, не смогли ее обуздать, а вы нам не помогали, вы, наоборот, мечтали, что мы, как в крысятнике, друг друга перегрызем, а вы придете на все чистое и построите демократию… Не надо, молчи, – отмахнулся он от моего вялого протеста. – Теперь это уже история, теперь и вы под криминалом ходите, разве я не знаю? Но ты, брат, по дури остался в своей структуре, а я – нет, я из своей еще тогда вышел. В конце концов, кем я был при советской власти? Я не был «политиком», конечно, но я отказывался жить по совковым законам и помогал всем, кто на эти законы плевал. Цеховики, подпольные артельщики – все шли ко мне за советом и защитой от коммунистической власти. А когда эта власть и ее законы рухнули, я стал смотреть по сторонам – чем же заняться легально?И тут как раз Леня Усатый, эмигрант из Бруклина, прилетел в Москву и привез какого-то американца, хозяина американского модельного агентства. И они на Патриарших прудах, в особняке, сделали кастинг. А я Леню еще по старым делам знал, и он пригласил меня туда, говорит: приходи, у нас будет кастинг. Я в то время не знал, что такое кастинг, я думал, что это еврейская фамилия, что он меня с каким-то важным Кастингом познакомит. А оказывается, они делали просмотр девушек, там этих девушек была огромная толпа, они стояли весь день – очередь, снег… Помню, я шел мимо них – меня, как почетного гостя, вели через черный ход, – и поскольку я не похож на русского, то все девушки говорили: «Вот он! Вот он!» То есть они меня приняли за американца, и все их взоры были устремлены на меня. А тогда, если помнишь, уехать за границу было у девушек просто манией. Кто был тот американец, которого Леня привез, рядом с каким модельным агентством он прошелся, – не важно. Ведь на Западе тоже большинство модельных агентств, мягко говоря, неприличные… бордели. Но наши этого ничего не знали, им лишь бы за бугор свалить, а с кем и куда – без разницы. Хотя на самом деле я не хочу сказать, что Леня Усатый и его партнер думали о чем-то плохом, нет. Просто этот кастинг и все, что они тогда делали, это были дилетантские попытки войти в модельный бизнес, не более того. Тогда у многих были такие идеи. Один мой приятель сказал мне: «Знаешь, давай мы с тобой сделаем такую вещь…» Приятель был еврей, хитрый на всякие выдумки. Он говорит: «Мы дадим в газеты объявление, что мы такое-то агентство, назовем себя как-то и дадим вместо своего адреса только почтовый ящик, чтобы наш офис не снесли эти девушки. Напишем, чтобы они прислали нам 25 рублей…» А в то время 25 рублей были похожи на 25 рублей, настоящие были деньги. «И они, – он говорит, – будут посылать нам 25 рублей и свои фотографии – портрет и в купальнике. А мы обязуемся честно показывать эту картотеку модельным агентствам, которые будут приезжать в Россию. То есть мы на самом деле их обманывать не будем…» Я говорю: «И что из этого получится?» Он говорит: «А ты посчитай. В СССР 250 миллионов людей, из них 150 миллионов – женщины. Из 150 миллионов 50 миллионов мечтают вырваться из этой жизни. Из 50 миллионов 20 миллионов пришлют нам по 25 рублей. 20 на 25, это сколько миллионов рублей получается? Ну и ты, говорит, со своей кавказской неуемностью, трахнешь, может быть, тысяч триста…»