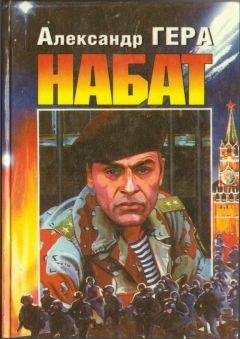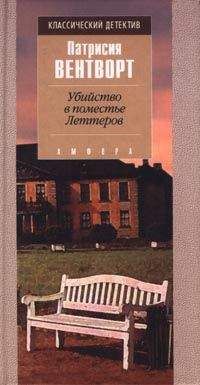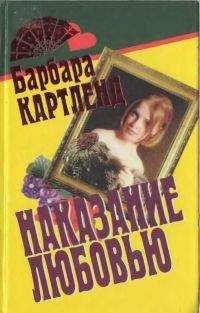Николай Псурцев - Голодные прираки
Вернувшись, Нина застала Рому Садика лежащим на одной из работающих тут девушек. Рома сжимал горло судорожно бьющейся под ним девушки и говорил ей хрипло, склоняясь к самому ее лицу; «Успокойся, Рома, и ничего не бойся. Ведь ты же – это я, а я – это ты. Разве мы можем бояться друг друга?». Нина растерялась и первые несколько мгновений не знала, что делать, но потом сообразила. Она достала из пакета мой револьвер и направила его на Рому и сказала ему решительно, вспоминая мои военные рассказы: «Вставай, мать твою, сука! Или я снесу твою башку на хрен!» Рома поднял глаза и долго, непонимающе, смотрел на Нину. И в глазах его Нина прочитала тоску и печаль, и вместе с тем полную отрешенность от происходящего. Пролетела секунда-другая, и Рома пришел в себя. Он отпустил девушку. Встал. Долго тер виски. Потом искренне извинился и взял пакет. А потом в гостиную ворвались оперативники. Убежавшая девушка от испуга рассказала им о нападении… Я спросил Нину, что представляет собой девушка, на которую напал Рома. «Травести, – ответила Нина, – эта девушка травести. Она маленькая и хорошенькая. Она носит короткую стрижку и одевается под мальчика-подростка – короткие бархатные штанишки на бретельках, гольфики с помпонами, сандалии…» Некоторые из клиентов Нины Запечной ребята с весьма причудливыми вкусами… А еще я спросил Нину, есть ли гарантия, что ее дом в ближайшее время не будет под наблюдением. Нет, ответила Нина, такой гарантии нет, один из вчерашних оперативников сказал ей, что зайдет сегодня днем, на всякий случай. Я попрощался с Ниной. «Берегись его, – сказала мне напоследок Нина, повторяя свои же слова, произнесенные ею после того, как мы устроили веселую потасовку возле ее дома. – Берегись своего приятеля…»
Я вернулся другим путем, шел, не приближаясь к заборам, где слышал собак (они дышали, попискивали, скулили во сне, шамкали и хлипко облизывались, они видели шумные сны и гремели цепью, когда содрогались от осознания, что они собаки), пригибаясь там, где хозяева дач уже проснулись и запахли запахами бодрствования – потом, мочой, несвежим дыханием, неудовлетворенной похотью, мятыми деньгами, табачной гарью и прочая, прочая, прочая, сворачивая в сторону, в ближайший проулок, если видел кого-то, кто так же, как и я, шагал по дачному поселку, одинокий или не очень.
Ника и Рома спали, когда я пришел. Рома все так же на полу, а Ника вес так же на кровати. Я в который раз уже за последние часы разделся и лег.
Я заснул, наконец, как ни странно и неудивительно, тихим и крепким сном. Мне снилось, что я вода и что родилась я в самом Центре Земли, а настоящий дом мой – неохватная Вселенная. Все меня любили, уважали и боялись. Я не знала, кто это такие все, но твердо знала, что они меня любили и боялись. Но нет добра без худа. Была в моей счастливой водяной жизни одна закавыка – я никак не могла решить, где же мне все-таки лучше течь, по Америке, по Австралии или по Российской Федерации, а может быть, даже по славной Литве или по не менее славной Норвегии. Где же мне приятней, где легче, где вольней и где же мне все-таки больше нравится? Решение пришло неожиданно. Сначала я почувствовал особую и очень знакомую приятную истому во всей себе, водяной, текучей, а потом мне показалось, что я потихоньку начала вскипать, забурлила – и оттого наслаждение мое еще увеличилось, И тогда я подумала, а какая в конце концов разница, где мне течь, лишь бы течь и не останавливаться, и в этом вся суть моей водяной жизни…
И тут я проснулся и закричал. Я кончал. Краем глаза я увидел голову Ники там, где должен был быть мой член… Я дернулся несколько раз и затих, довольный и успокоенный.
И может быть, минуты не прошло или тридцати, или, может быть, на следующие сутки и тоже в начале дня Ника подняла голову и сказала, утренне улыбнувшись: «Ты так красиво спишь. Я не могла сдержать себя. Но я хотела удовлетвориться лишь прикосновением. И прикоснулась. И он отозвался тотчас, несмотря на тебя, спящего и ничего не осознающего. И я поняла, что простое прикосновение не принесло мне удовольствия… Прости меня. Я разбудила тебя» – «Я люблю тебя, – сказал я и погладил Нику по щеке. – Я люблю тебя…»
Я рассказал Нике о том, что я узнал от Нины Запечной. Ничего не утаивая – все как было. Ника молча выслушала меня. Потом поднялась и вышла в ванную. Долго плескалась под душем. Вернулась в спальню, села возле зеркала, с косметичкой в руках, и только тогда спросила, что я об этом думаю. Я пожал плечами. Ника посмотрела на себя в зеркало внимательно и изучающе и сказала, что, наверное, Рома псих, и я увидел, что, произнеся это, она улыбнулась своему отражению.
…Ника вспомнила вдруг, совершенно неожиданно для себя, какой восторг она испытала, когда в десятом классе ее учитель русского языка и литературы на глазах у всего класса уверенно и сильно ухватил гориллообразную директрису школы за ее мускулистую шею, прижал директрису к доске и сказал тихо, почти шепча: «Если ты, сука, еще раз укажешь, как мне вести свои уроки, я выдавлю из тебя все твое дерьмо и заставлю его сожрать!…» Директриса тогда потеряла сознание и свалилась с грохотом возле доски, а учитель, к немому восхищению класса, как ни в чем не бывало продолжил урок: «А теперь поговорим об уродах, придурках и неудачниках, короче, о тех, кто составляет основное население русской классической литературы».
Тогда Ника впервые очень четко и ясно, будто снизошло на нее откровение, поняла, что полюбить она сможет только сильного, жесткого и, может быть, даже безоглядно отчаянного человека, такого вот, как тот, который стоит перед ней у доски, рядом с валяющейся директрисой, и рассказывает презрительно о слюнтяях и нытиках, бездельниках и глупцах, подлецах и неженках, о тех, кто, конечно, недостоин быть русским, а уж тем более героем русской классики. Ника отдалась ему тем же вечером, здесь же, в школе, на столе, с раздирающим перепонки криком и истинным, никогда доселе ею, знающей мужчин уже три года, не испытанным наслаждением. Учитель был действительно силен и к тому же неожиданно изобретателен. В тот вечер в пустом классе они испробовали все, что можно было испробовать, в рамках отведенных, конечно, сил, времени и возможностей. На следующий вечер Ника по просьбе учителя привела с собой подругу, красивенькую, стройную девочку Машу. Любовь втроем потрясла шестнадцатилетнюю Машу. Маша прекратила все связи с внешним миром. В школу не ходила. Сидела дома, сказываясь больной. И только вечером под разными предлогами уходила из дома и являлась сюда, в класс. И только здесь она оживала, смеялась, шутила, рассказывала что-то забавное, дурачилась, предвкушая очередное тройственное совокупление. Она и Ника обожали учителя, боготворили его. Писали ему стихи, рисовали его с натуры, любуясь его красивым жестким лицом и его тренированным гладким телом. Так прошел месяц, другой, третий. И вот… В один из вечеров запертая дверь в класс была с грохотом вышиблена, и в помещение, где хрипло рычала любовная троица, ворвался высокий мужчина. Он оторвал учителя от девчонок, саданул его пару раз о доску, а затем, вынув из-за пазухи пистолет, сказал что-то такое ужасное, угрожающее, страшное и необыкновенно матерное, от чего учитель, как какое-то время назад толстая директриса, свалился без сознания возле той же самой доски. Ворвавшийся мужчина оказался Машиным папой. Папа был военный и работал в каком-то секретном военном подразделении и, как сказала Маша, несколько лет воевал в Африке.
Умная Ника, проанализировав произошедшее, сделала три вывода. Первый: на любого крутого – всегда найдется кто-то покруче. Второй: чем мужик круче, тем симпатичней. И третий: по всему получается, что где-то по земле ходит самый крутой и самый симпатичный.
И Ника сказала себе, обсудив с собой все сделанные ею же три вывода, что жизнь свою девичью она целиком посвятит поискам вот этого самого крутого и симпатичного, И неважно, насколько поиски те будут трудными и долгими, может быть, даже и опасными, она преодолеет все сложности и страхи и непременно отыщет того, кто ей нужен…
Завтракали мы внизу, в гостиной. Ника приготовила картошку со свиной тушенкой. Рома открыл трехлитровую банку маринованных огурцов. А я сварил кофе. Ладно и быстро все у нас получилось.
Мы сидели за столом, аккуратно жевали вкусную пищу и улыбались. Я улыбался Нике. Ника улыбалась Роме. Рома улыбался себе.
За последние несколько лет – пять, а может быть, шесть – Роме впервые было очень хорошо. В ушах его стояла удивительная и очень непривычная ему тишина. Еще вчера в ушах его то гремел гром, то истерично бились крики новорожденных, то пищали крысы, то звенели рассыпаемые по полу медные никелевые монеты, то гудели провода ЛЭП, то грохотали танковые треки, то кто-то хрипло дышал ему в ухо, то хлопали птичьи крылья, то на повышенных тонах разговаривали рыбы, то свистели водосточные трубы, то отчаянно стучали крыльями бабочки, то чей-то голос говорил ему строго: «Рома! Рома! Рома! Рома! Рома! Рома!…» А сегодня вот тишина. И оттого спокойствие. И оттого благодушие. И оттого чудесное тепло во всем теле. И еще Рома с изумлением заметил, что у него совершенно исчезло постоянно в нем живущее страстное желание сделать то, что он иногда, когда ему совсем становилось невмоготу, делал все последние пять или шесть лет. Ему совершенно не хотелось делать это. Что Рома подразумевает под словом «это», я, как ни силился, а понять не мог. Рома, по всей видимости, сам от себя закрывал расшифровку этого самого это. Я сделал все же попытку просочиться в Рому поглубже. Но Рома, опять ощутив вторжение, закрылся еще больше. Я слышал, как Рома мысленно повторял про себя, то ли уговаривая себя, то ли констатируя факт: «Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу…». Я отступил. Рома посмотрел на меня, на Нику, подумал, что вот тут рядом сидят два человека, которые ему приятнее всего на этом свете, один – давно, он уже и не помнил, с каких пор, а другая – всего несколько часов, но кажется, что будто несколько десятилетий. Рома с удовольствием переводил взгляд с меня на Нику, с Ники на меня и улыбался загадочно. Ему хотелось сейчас что-нибудь рассказать нам интересное, веселое и запоминающееся, ему хотелось, чтобы мы внимательно и, забыв обо всем, слушали его и восхищались его рассказом и его умением такие рассказы рассказывать. Рома сделал глоток кофе и решил начать: «Послушайте, я хочу вам рассказать, как я любил когда-то, правда, это было так давно… – Я засмеялся, услышав слова из известной песенки «Битлов», Рома, воодушевленный моим смехом, продолжил: – Я отдыхал на Черном морс. Стоял июль. Плавился песок. А воздух можно было резать ножом и мелкими кусочками впихивать себе в рот, а затем и в легкие. Одним словом, было славно. Пансионат, в котором я жил, стоял далеко от Ялты. Так что людей вокруг было немного. Чему я исключительно радовался. Я рассуждал так; захочется мне видеть вокруг себя побольше людей, я сяду на автобус и доеду до Ялты – всего-то шесть или семь остановок. Я жил один и удивлялся такому счастью… Только что закончилась война… Только что закончилась война… И я еще стрелял по ночам… Командовал ротой… Окапывался… Прятался… Нападал. Я плавал всегда далеко от берега, потому что там море было прохладней, чем у берега. И вот на третий день моего пребывания на ярком и душистом побережье Крыма случилось следующее. Я плыл брассом и пел какую-то строевую песню, громко и весело, и не заметил птицу, которая низко пролетала над поверхностью моря. И вышло так, что эта птица чрезвычайно сильно ударила меня крылом. Я на секунду потерял сознание и, конечно же, глотнул воды и, конечно же, пошел ко дну. Очнулся от того, что стал дышать – не водой, воздухом, хотя все еще находился на морской глубине. Я открыл глаза и увидел вокруг себя совершенно голых людей, мужчин и женщин. Они были в аквалангах и масках. В своих зубах я тоже ощутил нагубник акваланга, а на своем лице маску.