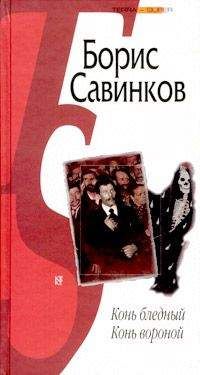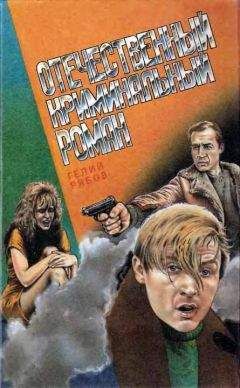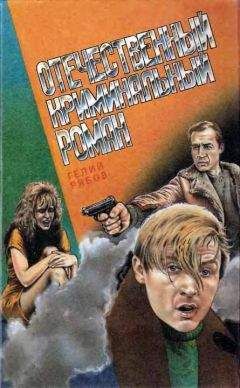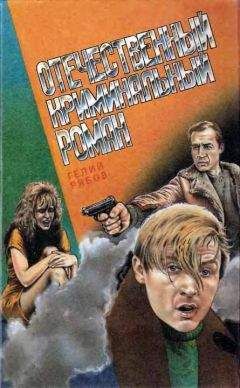Гелий Рябов - Конь бледный еврея Бейлиса
Бросил на собеседника странный взгляд:
- На границе Плоского и Лукьяновского участков - пещеры... В одной из них найден труп мальчика...
- Ющинского... - Лицо Евдокимова сделалось серым, в глазах мелькнул испуг.
- Тетрадки валяются... На обложке его фамилия... - нарочито ровным голосом произнес Мищук. - Он не он- вскрытие, как говорится, покажет. Поехали.
На улице, когда садились в дежурную пролетку, покосился из-под котелка.
- Не нравится мне все это... Вы не вмешивайтесь. Если что представитель прессы, это допускается. Остальное возьму на себя.
- Но-но, злочинцы! - провозгласил разбойничьего вида кучер, охлестывая лошадок длинным кнутом. - Прокатим ихние благородия! - Пролетка тронулась и пошла, набирая ход, замелькали дома по сторонам улицы.
- Вам короче или быстрее? - свесился назад, улыбаясь погано.
- Быстрее, - буркнул Мищук, и возничий лихо покатил, никуда не сворачивая. Объяснил:
- Чем прямее - тем быстрее!
Вскоре широкие мощеные улицы сменились улочками, а многоэтажные каменные дома затейливой архитектуры - простенькими, деревянными, иногда в два этажа. Все чаще и чаще цокот подков сменялся шлепаньем, это означало, что камня под колесами больше нет, только прибитая земля.
- Вот она, Верхняя Юрковская, - провозгласил кучер. - Да вас уже и встречают...
Грустное зрелище предстало перед Евгением Анатольевичем. Одноэтажные, редко - в два этажа, домики, потертые и поблекшие, пыль столбом, покосившиеся заборы и палисады - все это не вызывало веселья. Здесь жили бедно и трудно, и Евдокимов подумал вдруг, что бедность, нищета - всегда поле деятельности темных сил. "Справа" или "слева", уж тут не поспоришь. Хотя подобное умозаключение чиновнику Охраны вовсе не к лицу...
...О чем-то докладывал толстый городовой в форме с нелепо торчащей на боку шашкой, она мешала, и толстяк раздраженно ее поправлял.
- Щас по Нагорной подымеся, тут недалеке будет, - частил, обнаружится усадьба, значит, господина Бернера, одно слово - дрянь земля... Овраги, заросло все...
- Вы, милейший, по делу, - оборвал Мищук.
- Дак разумеется, ваше высокоблагородие, господин начальник, мы с нашим удовольствием! Я, значит, в пещере самой не был...
- Обстановка какая? - перебил Мищук. - У пещеры? Охрана?
Городовой смешался.
- Пока, значит, звонить бегали - не было охраны. Да ить народ - он порядок знает. Не тронут ничего...
Мищук налился, словно спелая вишня, видно было, что едва сдерживает готовое прорваться бешенство.
- Болван... - процедил ровным голосом. - Объясни внятно и толково почему не поставили охрану?
- Ну? - по-женски всплеснул руками толстяк. - Я ж вам и толкую: который нашел, значит, - он из Плоского участка. А я - из Лукьяновского! Ничья, выходит эта... Территория! Я почел долгом сбегать, позвонить вам. А он - побежал в свой Плоский участок доложить. Там телефона нету пока...
- Господи... - пробормотал Мищук, поворачивая страдающее лицо к Евгению Анатольевичу. - Да почему еще цела Россия, а?
Поднялись по склону оврага, кустарник и деревья здесь расплодились неистово, даже без листьев это была стена. Кое-где лежал еще ноздреватый мартовский снег, висел туман, и странно это было: одна его часть будто сползала книзу, заливая молоком дно, другая - вверх, переваливая через гребень. Все напоминало театральную декорацию из модной декадентской пьески...
- Вот, вот она, пещера эта, - задыхаясь провозгласил городовой, и сразу же Евдокимов увидел множество людей. Размытые туманом, они стояли молча, понуро, недвижимо. Женщина с растрепанными волосами замерла у входа - чернеющий овал едва ли метровой высоты.
- Мать евонная... - шепотом сказал городовой, и Евдокимов сразу же узнал: та самая, увиденная в редакции, молчаливая.
- Вы Александра Приходько? Мать? - осведомился Мищук, протискиваясь в провал. Она молча кивнула.
- Вы опознали мальчика?
Она замотала головой, словно лошадь, отмахивающаяся от мух.
- Я... я не... лазила... туда...
- Ладно. - Мищук скрылся и сразу же донесся его приглушенный голос: Так... Мальчик... Лет двенадцати... Ч-черт, свечка гаснет, дайте новую... Просунули, он продолжал: - Руки связаны бечевкой... Раны... Колото-резаные. Тетрадки, свернуты, над головой воткнуты... Так... Фамилия: Ющинский, Андрей, Киево-Софийское училище... Здесь же: чулок, фуражка, куртка.
- Выше высокородие... - Полицейский держал в руке несколько листков с круглыми отверстиями по краям. - Вот, нашел, здеся так и лежали!
Мищук высунулся.
- Дайте-ка, - просмотрел, сунул в карман. - Внесем в протокол, похоже - из записной книжки, только имеют ли отношение к делу... Убрать посторонних! Пристав Лукьяновского участка - здесь? Пишите... - и начал диктовать: "Протокол осмотра места происшествия. Я, начальник Сыскной полиции города Киева Мищук Е.Ф. сего, 1911 года, марта, 2-го дня произвел осмотр местности на окраине города Киева, Лукьяновке, в покрытой зарослями усадьбе г-на Бернера, выходящей неотгороженной стороной на Нагорную улицу. Вдали от построек, в одной из имеющихся здесь пещер, на расстоянии ста пятидесяти сажен от этой улицы обнаружен труп мальчика..."
Мать покойного, Александра, стояла с отре шенным, мертвым лицом, Евдокимову вдруг показалось, что она улыбается, это выглядело так невероятно, что Евгений Анатольевич усомнился. Но вот Александра начала что-то говорить, слова с посиневших губ слетали невнятно:
- Бабку Олипиаду... спрашиваю: был ли... Нет, говорит... Я испугалась... Он всегда домой приходил... Я к тетке, Наталье, побежала, на еврейский базар... мастерская у ей... Нет, говорит...
И снова улыбка - Евдокимов хорошо увидел. Между тем Мищук приказал погрузить тело на телегу, накрыть рогожей и везти в морг, но Евдокимов (будто толкнуло изнутри) попросил:
- Я желал бы... Взглянуть.
Мищук бросил быстрый взгляд.
- Это не театр, не находите? Впрочем, валяйте - вам полезно будет.
И Евгений Анатольевич влез в пещеру. Сначала показалось темно, потом глаза привыкли. Свечи еще догорали- в ряд, словно перед алтарем, лицо убиенного бледнело в тени, Евдокимов взял свечу и поднес. То, что увидел, было неприятно и страшно даже. Белое, обескровленное лицо, налитые мертвым стеклом глаза, цвета не разобрать, рана на виске, множественная, будто несколько ударов было или один, от установленных на чем-то острых иголок. На полу, в глине торчали обрывки светлой материи. "Бедный ты, бедный... не удержался Евгений Анатольевич. - Кто же это тебя... За что..." И вдруг знакомый образ возник перед глазами, и сразу стало спокойно и благостно, будто свежего воздуха глотнул: другой мальчик. Тот, что обретался в часовне, выглядел иначе. Ну и слава богу. И сразу услышал - понеслось снаружи, из толпы:
- Люди православные... Ребенок убит жидами. В обрядовых целях. Тело обескровлено. Это означает, что изуверы взяли кровь ребенка, чтобы на свою жидовскую пасху замесить мацу Гезир, отпраздновать изничтожение нас, русских... Господь воздаст им!
- Молчать! - крикнул Мищук. - Я запрещаю!
- Прихвостень жидовский, - прозвучало в ответ. -Знаем вас.
Пронзительно заверещал свисток, послышались неуверенные увещевания городовых и гул недовольства.
- Похоже... Похоже это на правду... - тихо произнес Евгений Анатольевич. - Мальчик несчастный... Им воздастся за тебя...
Огляделся и вдруг понял: да ведь ребенок - на кресте! Вход в пещеру он как бы основание креста, а в тупике- разветвляется: направо и налево. И вот - ноги у него справа, а голова - слева! И получается, что принял он крестную смерть...
Последний огарок затрещал и погас, стало темно, даже со стороны входа не брезжило, и сразу возник голос, тихий, шелестящий, первых слов нельзя было понять, но остальные обозначились явственно: "...и вам отворят".
- Господи... - пробормотал, - что же это такое... Я с ума спрыгну. Пощади, Господи...
Просунулся Мищук:
- Идемте, а то мутно в толпе, сумрачно.
- Вы до сих пор не убедились... - повел Евгений Анатольевич головой. Глас народа - глас Божий...
- Оставьте чепуху молоть! - взъярился Мищук. - Толпе подбрасывают то, что на поверхности как бы лежит... А вы сами с собой разговариваете? Хотя место такое - мозги враз утекут... Ладно. Все.
И снова услышал Евдокимов: "...свидетельства ложна..."
Мищук встрепенулся:
- Слышали? Будто голос из-под земли? О свидетелях, а? Шуткует кто-то...
Евдокимов покачал головой.
- Это не из-под земли... Это он. Я его вчера в часовне видел.
- Так... - недобро проговорил Мищук и заорал что было мочи: Голобородька! Сюда!!
Городовой влез, тяжело дыша. Мищук схватил его за лацканы шинели.
- Барина видишь? Ну так вот: отвезешь в город, к нашему врачу! Пусть даст ему валерьяновых капель! Тяжелое, однако, зрелище... И у меня голова не выдерживает...
К пролетке, через толпу, Евгений Анатольевич шел как сквозь строй, не смея поднять глаз, но подумал, что стыдно в такой миг тяжкий уклоняться от общего горя, нечестно это... И стал смотреть. И увидел: скорбь была в глазах и на лицах, даже отчаяние иной раз поглядывало, и похмельное равнодушие увидел, и пустой интерес - так за дворовыми драками другой раз наблюдают... Но злобы не увидел. И ненависть, что рядом с нею всегда. И с каким-то внутренним стыдом (почему, почему? - вопрошал себя) подумал: добрые мы... И черт его знает - хорошо это или плохо... Как человеку прожить во внутренней гармонии с самим собой, когда мир во зле лежит, тот самый мир, который некогда научили писать в корпусе с точкой: "мiр", что означало - в отличие от "мира" с обыкновенным "и" - мир всех людей... "Кто же тогда призывал к погрому? Смутьяны? Гнусное словечко. Нет, неправда это..."