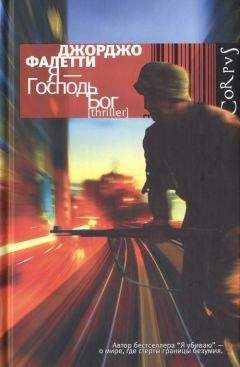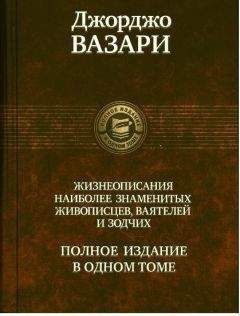Джорджо де Кирико - Гебдомерос
В той лачуге Гебдомерос ощутил себя в безопасности, поскольку не обнаружил вокруг ни признака человеческого присутствия; однако чувство это не вызывало у него доверия, ибо он был человеком не склонным доверять иллюзиям; он помнил, как часто иллюзии обманывали его в молодости; по этой причине он всегда был начеку, в постель ложился в одежде и ботинках, ночи проводил в полудреме, держа под рукой свинцовую палку и автоматический пистолет, чтобы в случае необходимости отразить любую неприятную неожиданность. Но зима прошла без чрезвычайных событий. Пастухи уже гнали коз с окрестных гор, играя на своих медных флейтах веселые мелодии; все предвещало весну; в этом северном краю она наступала внезапно, словно декорация на сцене, предстающая взору при неожиданном поднятии занавеса; бесчисленные потоки горной талой воды пробивались сквозь скалы и устремлялись вниз; вдоль тропинок, на обочинах сидели ангелы, рукой они опирались на большие верстовые столбы с высеченными на них изображениями двуликого Януса над выступающим в нижней части камня мужским членом; крылья ангелов, огромные, как у орла, сотканы были из белых и мягких, как гусиный пух, перьев. Они с грустью наблюдали, как пары, обнимая друг друга за талию, медленно удалялись в заросли цветущего миндаля.[45] Повсюду – надписи из сверкающих букв; с востока по вулканической, скалистой местности продвигалась группа охотников, окруженная сворой собак; они с рвением отлавливали толстокожих животных, тех немногих, что остались от почти вымершего разряда пахидерм. Высоко в небе в ожидании солидной добычи парили грифы; они то опускались, то взмывали вверх, словно земля посылала им сигнал об опасности, но при этом никогда не теряли из виду охотников. Цель их была ясна: они ждали, когда собаки и охотники скроются за скалами и можно будет склевать остатки убитого животного. Несмотря на то что в воздухе парили грифы, а среди серых скал тут и там белели кости животных, край этот вовсе не был ни диким, ни пустынным. Его оживляла работа мощных горнопромышленных установок; повсюду дымили трубы, по крошечным рельсам курсировали вагонетки; вокруг с раскрасневшимися от жары лицами суетились бородатые инженеры, которые любую свободную минуту использовали для того, чтобы поудить рыбу или же пострелять из пистолетов по пустым бутылкам. По вечерам единственным развлечением здесь было посещение кукольного театра. Идея его создания пришла в голову одному скульптору с внешностью ассирийского царя; он гордился тем, что был учеником модного мастера, и снискал уважение в своем обществе игрой на флейте, впрочем, довольно скверной. Эти кукольные спектакли проходили не так тихо и невинно, как можно предположить; иной раз кукольник, человек в высшей степени истеричный и страдающий приступами эпилепсии, приводя в движение вырезанных из картона марионеток с критскими глазами, издавал такие крики, что внезапно пробудившиеся сторожа вскакивали с постелей как по сирене и бежали к охраняемым ими объектам. Гиены, оставив падаль, устремлялись в горы. Извозчики, дремавшие на козлах и при любых толчках обычно лишь слегка приоткрывающие глаза, подскакивали и в панике начинали нахлестывать лошадей; такое зрелище вполне сошло бы за апокалипсис. Покинув уродливый вокзал восьмимиллионного мегаполиса, где люди проводили дни в бессмысленной суете, Гебдомерос направился в район ночных развлечений, который находился в сердце самого города, но представлял собой отдельный мир. На самом деле, он имел свои размеры и границы, свои законы и свой устав; не хватало только усердных, вечно бодрствующих таможенников, чтобы на въезде потребовать у вас декларацию. На подступах к этому кварталу городское движение затихало; судорожные перемещения транспорта и без дела слоняющихся пешеходов умирали, как умирает морская волна на берегу пляжа. У счастья свои права – такие слова из светящихся букв можно было прочесть над центральным порталом триумфальной арки, которую венчали деревянные, расписанные нежными мерцающими красками фигуры женщин, трубящих, подобно неутомимым тритонам, в фанфары. В темноте возвышались крепости; судьба не была к ним благосклонна, но они хранили в памяти благодарность и доброту тех, кому некогда служили убежищем; их величественные стены, погруженные в тишину, отдыхали; ночь близилась к апогею; сонный мир пребывал в глубоком покое, и буря в смятенном сердце Гебдомероса, казалось, наконец утихла. Теперь все было далеко – блеск и слава, бессмысленный героизм, и пирамиды, которые подстрекаемые страхом забвения государственные мужи принуждали возводить своих безучастных служащих; а те, занимаясь строительством, думали о далеких от суетного мира невесте или жене, что ждут их там, внизу, в тихой семейной обстановке, у распахнутого в сад окна, откуда веет прохладой и где тысячи светлячков расчерчивают тени своими фосфоресцирующими лучами. Бессмысленными теперь казались продвижения королевских кортежей по большим сельским дорогам; издали, увы, их вид не был столь величествен! Если бы не сверкание оружия, которым потрясали сопровождающие кортеж всадники, его можно было бы принять за табор цыган, в лохмотьях бредущих в поисках хлеба, опасаясь при этом, что жестокосердные крестьяне пустят по их следу грязных сторожевых собак. И если полагать, что из сострадания может родиться любовь, то это все, что сулили Гебдомеросу эти с трудом поддающиеся выражению чувства. Безмерная тоска и тревога, охватывающие его бессонными ночами в поездах во время переездов, порождали в воображении образ огромной борзой, с неимоверно длинным телом, проносящейся над миром прыжками на негнущихся лапах, как гоночный автомобиль, она летела над пестрыми картами городов, над регулярными зелеными массивами, где каждое дерево имело свое имя и свою историю, над обширными полями, которые возделывались не одним поколением земледельцев, предусмотрительно выбиравших подходящий для сева момент; и тогда сострадание Гебдомероса распространялось на все человечество: на болтуна и молчуна, на страдающего богача и преисполненного ненависти бедняка; но самое глубокое и искреннее сострадание он испытывал к тому, кто питался в дешевых ресторанах. Особенно когда клиент сидел у окна так, что злые и дерзкие прохожие, поистине ожившие призраки другого мира, могли бесчестить своими непристойными взглядами девственную чистоту, бесконечную нежность, ненавязчивое целомудрие, непередаваемую меланхолию этого момента; момента, который одинокий едок переживал на глазах у всех, скрывая свой стыд так деликатно и трогательно, что было непонятно и как это весь обслуживающий персонал – хозяин, кассирша, официанты, а вместе с ними и обстановка, столы, бутылки, вся столовая утварь, вплоть до солонок и прочих мелочей, не разразились потоком бесконечных слез.
Более высокой ипостасью земных треволнений были душевные переживания, связанные с незабываемыми зрелищами, на представлении которых Гебдомерос никогда не упускал возможности присутствовать. Миллионы и миллионы воинов вторгались на территорию края и шли через виноградники, точнее сказать, неудержимым потоком стекали с гор, с тех изрезанных пещерами гор, что напоминают топографическую карту неведомого государства, а падающий с потолка ровный свет усиливал эффект правдоподобия происходящего. «Мирмидоняне!.. Мирмидоняне!..»[46] – словно в доисторическую эпоху, крик этот разносился многократным эхом, отражаясь от пустынного побережья. Над площадью, окруженной крытой колоннадой, небо было чистым и ярко-голубым; барометры в общественных учреждениях, на горе мореплавателям, застрявшим на неподвижной каравелле посреди океана, стояли на отметке «ясно». На других же точках планеты хмурые, бездонные озера со стоячей, темной водой в тревоге устремляли свои взоры в небеса, где прихотливый бег тяжелых, как скалы, и черных как ночь туч прерывался вспышками остроугольных молний. Дождь падал и падал сплошной вертикальной стеной, и казалось, что от падающих капель вода на поверхности озера начинает закипать. Страдающие водянкой философы, эти полубоги, проявляющие свое достоинство в желании казаться простыми и доступными, хитрили: развесив на измазанных известью ветвях торчащей на берегу тощей финиковой пальмы свои одежды, они забирались в воду, чтобы не промокнуть; зачастую они целые дни проводили в ожидании этой жуткой непогоды, ибо, разразившись, она давала им повод вытащить на свет Божий эту старую, но тонкую остроту. Гебдомерос был разочарован, поскольку думал в это время о другом. «Этими бесстыдными демонстрациями, – произнес он, обращаясь к своим друзьям, – этими великолепными натюрмортами, где бананы и ананасы лавиной сыплются на крупы беспечных косуль и спины разноцветных фазанов, этим дерзким, провокационным благополучием, этим мощным ударом по нужде и фантастической оплеухой умеренности прошлое красноречиво заявляет о себе, и в темноте я вижу его мстительную усмешку. И тогда случаются немыслимые бедствия: валяющиеся на полу среди опрокинутых стульев и разбитых бутылок скатерти, свернутые, как ловушки для слонов, обвиваются вокруг ног официантов; те, нагруженные подносами с едой, падают, и чудовищное разрушение дополняется подлинным наводнением, образующим море разноцветных подливок, в котором, подобно остовам сгоревших и тонущих кораблей, плавают скрюченные тушки жареных цыплят». Гебдомерос не выдержал. Он поднялся, точнее, возник, как возникает тень каторжника на сырой стене, когда на пол камеры ставят лампу; его низкий голос звучал непривычно; он словно не видел обращенных на него глаз тысячи шестисот семидесяти пяти лиц тех людей, что пришли послушать его. Наконец к нему вернулось ощущение реальности, и тогда в его памяти возникли воспоминания об утренних часах в сентябре на священных холмах, окружавших город; вскоре послышались восклицания: «Акрополь! Акрополь!» «Нет, – произнес Гебдомерос, деликатно улыбнувшись, – на этот раз речь идет не об Акрополе, и даже если бы Перикл, сердечный друг художников, скульпторов, архитекторов и поэтов, которого на исходе жаркого летнего дня сразила безжалостная чума, был в данный момент среди нас, он не тот, о ком вы сейчас непроизвольно думаете.[47] Перикл, которого представляю вам я, – близорук и, чтобы скрыть этот свой недостаток, носит шлем надвинутым на лоб;[48] между тем манеры его всегда строги и элегантны, особенно это заметно, когда он непринужденным жестом набрасывает на левое плечо край своей хламиды; его длинные, кривые ноги, вместо того чтобы делать его смешным, придают ему сходство с пикадором, скучающим по арене, которую по старости лет вынужден был покинуть; склонив голову к правому плечу, он умильно (что само по себе уже говорит о его близорукости) разглядывает женский профиль, вычеканенный на монете». На площади, куда по вечерам, когда она пустела, страдающие дизентерией лошади приходили пощипать цветущие среди прославленных руин нежные ромашки, среди барабанов рухнувших колонн, как обычно, расположились те христиане, что не поддались ни панике, ни эгоизму, ни подлой трусости; они предпочли бросить вызов страху и смотреть в лицо смерти, твердо держась на закованных в кандалы ногах, а не испытывать стыд, переодевшись в беременных крестьянок и кормилиц, и не бежать, ища спасения в этом стаде двуногих овечек, к переполненным лодкам, грозящим при каждом ударе весла пойти ко дну. Ныне же все они расположились на земле в ленивых, величественных позах; они походили на пиратов, внимающих своему капитану, рассказывающему страшные истории о ночных абордажах. С наступлением ночи это общество аскетичных воинов и лишенных иллюзий благородных персон начинали тревожить сияющие во всех направлениях длинные световые лучи прожекторов, установленных бунтовщиками на окрестных высотах; тот, кому посчастливилось оказаться среди громоздящихся друг на друга руин, образующих некое подобие грота, менее других озабочен был этой игрой отраженного света, тот же, кто мог лишь опереться онемевшей спиной на жесткую и холодную цилиндрическую деталь колонны, рисковал провести ночь без отдыха. Время от времени кое-кто разворачивался спиной к пляжу, поскольку вид его ничем их больше не привлекал. Скорее их интриговало обилие огромных, освещенных сверху донизу гостиниц, которые как маяки сияли на вершинах отвесных скал, а морские волны замирали у подножия этих мрачных камней. Окна были распахнуты; на балконы и террасы в вечерних туалетах вышли богатые постояльцы, привлеченные доносящимися с погруженного в темноту пляжа звуками. Делать здесь больше было нечего; Гебдомерос с друзьями покинул это место и оказался в окрестностях, служивших городу своего рода кулисами. В самом деле, именно сюда отправлялись те, чья деятельность разворачивалась у всех на виду; здесь они, как актеры, готовились, накладывали грим, повторяли свои партии, чтобы затем подняться на сцену и мастерски, как обучили их наставники, продекламировать выученную наизусть, или почти наизусть, роль. Зарождались новые идеи, менялись вкусы и привычки, но пыльные подмостки, с которых они выступали, вопреки всем изменениям всегда оставались чем-то грязным и постыдным. Гебдомерос не раз задавался этим вопросом: почему в театре всегда есть нечто постыдное? Он не мог дать на него ответ. Теперь же, когда ему случалось оказаться одному в своей комнате, он вечерами допоздна предавался этим размышлениям. Трое его друзей уходили от него обычно в десять в веселом расположении духа и, напевая, отправлялись по дороге, круто спускавшейся к рыночной площади. Гебдомерос оставался один наверху, в том доме, где десять лет тому назад снял крохотную комнатку с убогой обстановкой. Позже, усилием воли, что под видом слабости и усталости всегда присутствовала в его характере, проявляя экономию и ограничивая себя во всем, он сумел приобрести дом целиком и выселить оттуда жильцов; он сделал это не из мести за то, что вынужден был нередко терпеть их дурное обхождение, а из желания наказать за низменные наклонности; он считал это справедливым. «Справедливость прежде всего», – думал он, сидя за столом и завершая скромную трапезу. Еду он готовил сам; она, как правило, состояла из какой-либо худосочной птицы (вроде анемичного жаворонка), которую ему приносил охотник – восьмидесятилетний старик, живущий по соседству. Охота для этого старика была культом, своего рода мистическим наваждением. Встав до зари, он свистом подзывал к себе старую собаку, и та устремлялась за ним следом, предварительно зевнув и с хрустом размяв кости. Гебдомерос каждый вечер покупал у охотника птицу, но съедал ее только на следующий день, поскольку в свободное время любил писать натюрморты с дичью. Он укладывал птицу на накрытый скатертью стол, а иногда на вату; вата имитировала снег, что напоминало зимнюю охоту, сборища охотников, устраивающих в гостиницах веселые попойки; они пили, расположившись у камина, где горели, потрескивая, бревна и сухие ветки и курили длинные трубки с фарфоровыми горелками, расписанными альпийскими пейзажами. Когда подходило время, Гебдомерос ощипывал птицу и готовил ее в чугунке, добавив туда немного козьего масла и щепотку соли; время от времени переворачивая ее вилкой, он громко повторял одну и ту же фразу: «Нужно, чтобы она почувствовала жар! Нужно, чтобы она почувствовала жар!» Если в тот момент, когда он садился за стол, кто-нибудь стучал в дверь, ему хватало решимости пригласить визитера разделить с ним трапезу, которая помимо поджаренной птички состояла из кусочка ржаного хлеба и ложечки черничного мармелада; в качестве напитка он использовал фильтрованную воду, куда добавлял немного пивных дрожжей и сахара. Он считал, что проблемы еды и питания относятся к вопросам морали, чем вызывал к себе антипатию и пробуждал злой сарказм у большинства людей своего окружения. Он подразделял пищу на моральную и аморальную. Зрелища в некоторых ресторанах, куда гурманы приходили удовлетворить свои непристойные гастрономические потребности, возмущали его до тошноты и вызывали в его душе праведный гнев. Господа, поглощающие лангустов и креветок, с маниакальным сладострастием сосущие расколотые щипцами клешни безобразных, покрытых панцирем монстров, заставляли его уподобляться Оресту, спасающемуся от Эриний, и обращаться в бегство.[49] Но более всего его коробило то, как любители устриц в начале трапезы заглатывают этих отвратительных моллюсков, закусывая черными хлебцами, старательно смазанными маслом, и запивая вином особого сорта; все это сопровождается гнусными разглагольствованиями по поводу испытанного эффекта лимонного сока, который заставляет сжиматься еще живого моллюска, смехотворными рассуждениями относительно ароматических свойств устриц, вызывающих в памяти запахи моря и бьющиеся о скалы волны, а также прочими глупостями, представляющими интерес только для тех, кто начисто лишен стыда и чувства самоконтроля. Крайне безнравственным он считал потребление кофе с мороженым, как и добавление кусочков льда в напитки. Взбитые яичные желтки и сливки тоже были для него материей нечистой и губительной. Еще более аморальным и достойным пресечения он находил неосознанное стремление, сильное и ненасытное, которое проявляют, главным образом женщины, к консервированным овощам – маринованным огурцам, артишокам и тому подобному. Из фруктов наиболее непристойными он считал клубнику и инжир. Согласно его моральному кодексу, потребление летом на завтрак инжира с колотым льдом было преступлением столь тяжким, что за него следовало карать заключением в тюрьму сроком от десяти до пятнадцати лет. Крайне предосудительным он считал и потребление клубники со сливками; он не мог понять, как разумные существа могут позволять себе подобные постыдные действия и как это у них хватает смелости совершать их публично, на глазах у себе подобных, тогда как следовало бы совершать свои позорные акции в самой темной комнате и при этом закрывать ключом дверь на два оборота, как если бы дело касалось изнасилования или кровосмешения. Все это он объяснял человеческой глупостью, которую полагал такой же беспредельной и вечной, как сама Вселенная; это было его твердым убеждением. Твердое убеждение! Однако на этот раз ему бы хотелось избавиться от него; он бы хотел излечиться от этого твердого убеждения, излечил же свою больную печень aquae calidae влюбленный и страдающий диспепсией Цезарь,[50] захватив со своими легионерами долину горячих минеральных источников. Гимн, что он сочинил той ночью, так никто и не прочел, ни самые верные друзья, ни та дева с горящим взором и величавой походкой, для которой он и был написан; Цезарь боялся коварства и сплетен, приходил в ужас от бесцеремонности и черствости своего окружения. Деревья, прежде заполонявшие комнаты и коридоры жилища, стали постепенно отступать на юг; они мигрировали группами, семействами, родами; теперь они были далеко, а вместе с ними отдалились и тысячи голосов, и будоражащие запахи этого таинственного леса. Молчаливая пожилая горничная, которую Гебдомерос звал Фурией, выметала остававшиеся на полу следы разрушений; и в преддверии новой жизни на карте полушарий ему открылось грандиозное зрелище: он внезапно увидел Океаны.[51] Как Колосс Родосский,[52] более того, как Колосс Родосский из сновидения, то есть увеличенный до огромных размеров, он расположил ступни своих ног на крайне удаленные друг от друга районы. Между пальцев его левой ноги, на раскаленных летним зноем скалах охотились мексиканские разбойники, в то время как ступня правой ноги упиралась в девственный край, в массу белых медведей; в этом краю толстые старики с профилем куницы раскачивали головами, глядя на ажурные, пористые ледяные торосы, похожие на руины великолепных соборов, разрушенных то ли землетрясением, то ли бомбежкой; здесь на пороге скверно пахнущего жилища из тюленьей кожи закутанные в шкуры эскимосы, похожие на кокосовые орехи, любезно предлагали своих жен умирающим от желания исследователям. И вновь в ночную темноту бесшумно взмыли ракеты; группы философов и воинов, объединившись в тайные мистические союзы, плотными многоголовыми массами, переливающимися нежными красками, сгруппировались по краям комнаты, там, где стены с потолком образовывали углы. «Эти лица не сулят ничего хорошего!» – воскликнул внезапно один из юных учеников Гебдомероса. «Пусть так, – ответил тот, – я понимаю, точнее, угадываю твою мысль; ты бы предпочел благопристойные призраки законопослушного пуританского общества, где избегают разговоров о микробах и хирургических инструментах, не обсуждают вопросы акушерства и гинекологии и где почти падают в обморок, когда кто-нибудь не столь чувствительный, как остальные, употребляет в разговоре: сын от первого брака, единоутробный брат – и тому подобные выражения; ты бы предпочел закрыться на веранде в обществе именно этих призраков, между тем как постоянные вспышки зарниц, бесшумных и быстрых, указывают на приближение грозы. И вот вскоре глухое рокотание грома усиливается, по саду проносятся порывы ветра, поднимая в воздух сухие листья и забытые на плетеных стульях иллюстрированные журналы; и наконец на пыльные газоны начинают падать горячие капли дождя, издавая звуки, похожие на щелчки по плотной натянутой материи. „Закройте окна! Закройте окна!" – кричит хозяйка дома, в растерянности мечущаяся по комнатам, словно Ниобея,[53] потрясенная видом своих детей, пронзенных стрелами; вот тогда, юноша, перед тобой возникает невообразимая картина: вокруг обеденного стола на своих длинных лапках бегают ощипанные догола цыплята, похожие на миниатюрных страусов; скрипачи спешно укладывают свои инструменты в черные футляры, напоминающие гробики для новорожденных; пейзажи и портреты, сотрясавшиеся в рамах, падают со стен на пол; повара-призраки, с обликом убийц, поднимаются на второй этаж, где размещаются спальни престарелых, полысевших господ, что, вооружившись тростями с набалдашниками из слоновой кости, готовятся достойно встретить смерть, чтобы внукам не пришлось краснеть, вспоминая о них. Ты предпочел бы это, наглый юноша, – добавил Гебдомерос с многозначительной улыбкой, вновь обращаясь к своему ученику, – однако лучше бы ты думал о прекрасных солнечных днях на пляже, думал о тех Бессмертных, что, облачившись в золотые шлемы и серебряные кирасы, под благословение тех, кто любит их, отправляются на кораблях умирать к неведомым берегам; они знают, что это лучший способ вернуться впоследствии к своим избранницам, чтобы жить с ними, не испытывая стыда и угрызений совести. Правда, сюда возвращаются лишь призраками, но, как гласит пословица, лучше вернуться призраком, чем не вернуться вовсе; думай об этом, не доверяйся видимости, и тогда у тебя не будет дурного желания изрекать фразы, подобные той, что я недавно услышал». Гебдомерос вновь двинулся в сторону рек с отвесными берегами, ветхих дворцов, возносящих свои купола и флюгера к бесконечной череде облаков, плывущих в небе. Великолепные врата в этот момент были закрыты, что должно было бы огорчить Гебдомероса, но то место, куда они вели, он посещал и в те дни, когда здесь бывали редкие, равнодушные ко всему посетители; воспоминаний об увиденном здесь прежде оказалось достаточно, чтобы успокоиться. В его памяти медленно проявлялись и мало-помалу формировались в сознании в отчетливые образы эти сооруженные из известняка у подножия гостеприимных скалистых гор храмы и святилища, эти тропинки, сулящие близость неведомых земель, словно далекие, чреватые приключениями горизонты, к которым Гебдомерос испытывал любовь со времен своего печального детства. В воздушном пространстве возникло магическое слово, оно сверкало, как крест Константина[54] и повторялось, простираясь до горизонта, как реклама зубного порошка: Delphoï! Delphoï![55] Теплый воздух наполнился легким шорохом, будто лавр шелестел под напором осеннего ветра, а на другом краю берега, в храме Бессмертия с золотыми колоннами, освещенными лучами прибитого к фронтону, а посему никогда не меркнущего солнца, на стенах возникали преисполненные печали картины былых времен. «Это – для сохранения равновесия, – говорил экскурсовод, – переизбыток счастья может нанести вред». Гебдомерос увидел Христа, поруганного толпой, затем легионеров, волокущих его к Пилату; увидел он и Потоп: водяные массы, вторгающиеся в долины, мускулистых, как Титаны, женщин, карабкающихся на еще не скрывшиеся под водой скалы, увидел возбужденных непогодой, тревожно трубящих слонов, черные силуэты которых отчетливо вырисовывались на фоне свинцового неба. Но стоило ли воскрешать все это в памяти? Эту бессонницу душными ночами? Фосфоресцирующие глаза тигра, оказавшегося рядом с москитной сеткой, натянутой над дремлющим в комнате исследователем? В нежном свете луны казалось, что горы были совсем близко; на окраине города, там, где перешептывались ночные божества, тротуары заканчивались и превращались в причалы порта, ведущего в море полей и лугов; отсюда можно было бы отправиться в странствие по волнам спелой золотистой пшеницы и мягкой зелени травы; те же, кто останется сидеть в кафе, в этом окраинном квартале города, что выступает в сельскую местность словно морской мыс в залив, те, кто останется здесь, будут размахивать платками и жестом руки посылать прощальные приветствия: «Будь счастлив! Lebe wohl! Всяческих тебе благ! Удачи!» И вот корабль, будто погружаясь в тихие воды, медленно исчезает в разноцветных волнах цветущего моря алых маков и целомудренных маргариток; надутые дыханием весны паруса какое-то время еще видны, затем исчезают и они; тогда все в мире приходит в согласие, и птицы, за мгновение до этого непредвиденного зрелища прекратившие петь, вновь принимаются радостно щебетать. Снова звучит на тысячу голосов природа, возобновляется замерший было во время появления похоронной процессии шум улицы; вся окрестность, наполняясь радостью, приходит в движение и бесстыдно выставляет напоказ свою благодать; возле украшенных гирляндами цветов ворот своих домов разгоряченные забродившим вином селяне и селянки кружатся в танце вокруг праздничного дерева, пытаясь сбить висящие на нем призы, они с громкими криками подбрасывают в воздух свои украшенные лентами шляпы. Гебдомерос, скрестив на груди руки, словно суровый трибун, оказавшийся на оргии, в задумчивости наблюдал за этим шумным проявлением невинной радости. «Эти люди, – думал он, – счастливы, во всяком случае они кажутся счастливыми, но о чем тут рассуждать, счастливы они или просто беспечны, очевидно лишь то, что демон-искуситель,[56] тот, кто хорошо знаком нам, людям духовного склада, никогда не садится ни за их стол, ни у их изголовья; он не идет за ними, когда, вскинув косы на плечи, они направляются на работу, следя за парящим в небе, будто белый шар на струйке воды в тире, жаворонком; тем паче он не станет наблюдать за тем, как вечером, усталые, они расходятся по своим домам, в то время как вороны парами, насытившись падалью со дна пересохшей реки, возвращаются в ближайшие горы, медленно, тяжело и размеренно махая крыльями и издавая глухое карканье, звук которого мне всегда так нравился. Мы знаем, что означает этот демон, постоянно издевающийся за нашей спиной; вы – далеко от города; вы чувствуете себя легко и вольготно, словно школьник, прогуливающий уроки; вы сидите на скамейке на пустынной улице, скрытой тенью от густой листвы платанов, препятствующей проникновению палящих лучей солнца; пройдя сквозь нее как сквозь фильтр, лучи теряют свою вредоносную силу и вырисовывают на земле узор, напоминающий дырчатую перфорацию на телефонном диске; вы свободны и безмятежны; вы предаетесь фантазиям и мыслям о былом, вспоминаете лица любимых в прошлом женщин, печали и радости прежней жизни; да, вам действительно кажется, что вы свободны и безмятежны, но тут вы замечаете, что вы не один; на вашей скамейке сидит еще кто-то… и этот кто-то, одетый с вышедшей из моды элегантностью, господин с лицом, отдаленно напоминающим фотографии Наполеона III,[57] а может даже Анатоля Франса времен Красной Лилии,[58] этот господин, что смотрит на вас, ухмыляясь сквозь усы, – это всегда он, демон-искуситель. Он вскоре исчезнет, но, как только вы подниметесь и отправитесь вдоль пыльной дороги, он возникнет за кустами и, чтобы подразнить вас, залает, изображая злую собаку, а если вы, потеряв терпение, приметесь изо всей силы швырять в него камнями, он побежит в поля, подпрыгивая как бесноватый, и будет кричать деревенским жителям, что вы имеете гнусные, преступные намерения изнасиловать девочку или же поджечь ферму». Этот внутренний монолог несколько утомил Гебдомероса и привел его в расстроенные чувства. Погода по-прежнему стояла прекрасная; покрывшиеся листвой деревья, уступами располагавшиеся на освещенных солнцем возвышенностях, создавали богатую цветовую гамму; на лужайках, поросших нежной зеленой травкой, с громкими, радостными криками резвились дети; над деревьями возносили свои остроконечные крыши скромные с виду, но чистые, веселые и приветливые дома; все пребывало в неге. Хотя тут же, неподалеку, с необычайной торжественностью разворачивались события, неизбежный ход которых предрешен был Богиней Истории, что с книгой на коленях сидела на облаке. Пузатые министры пожимали руки и заглядывали в глаза монархам, увешанным орденами и лентами; а между тем внизу, на рейде, корабли, громыхая всеми своими металлическими частями, поднимали свои флаги на флагштоках с антеннами. Пролетавший в этот момент мимо Меркурий смотрел вниз, и, когда по долинам разносилось эхо оружейных залпов, он радостно потрясал своим кадуцеем…[59]