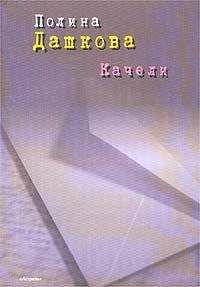Полина Дашкова - Приз
Впечатление оказалось незабываемым. Сначала она просто стояла в толпе и наблюдала, как искажаются лица, как рыдают и стонут фаны.
К третьей песне она заметила, что сама подергивается, покачивается, под мышками и в глазах мокро, во рту, наоборот, сухо. Когда солист запел четвертую песню, Василиса обожала его и готова была вместе со всеми ринуться к сцене, пробиться сквозь милицейский кордон, содрать с себя одежду, кожу, вывернуться наизнанку, лишь бы прикоснуться к божеству. Она растворилась в толпе, как в крепкой кислоте, перестала существовать и только потом, в пустом вагоне метро, глядя на свое смутное отражение в черном стекле, держась за влажный теплый поручень, поняла, что за несколько часов концерта пережила нечто вроде клинической смерти. Еще немного – и у нее стали бы разрушаться клетки мозга. Ей было мерзко, стыдно.
Концерт превратился в дежурный ночной кошмар. Сейчас ей было плохо, и он опять приснился.
Толпа ревела и похрюкивала. «Ах-ха… ха-ай!» Огни блуждали в темноте. Сотни, тысячи огней. Они двигались, выстраивались в гигантскую фигуру, похожую на крест, но почему-то все его четыре конца надломлены.
Не крест. Совсем наоборот. Свастика. Пылающая свастика размером в площадь. Толпа ревела «Хайль!». Вдалеке, на высокой трибуне, дергалась маленькая фигурка. Толпа изнывала в едином экстазе.
Площадь, заполненная уже не пестрыми потными подростками с войлочными косичками «дредами», с серьгами в носах и бровях, а взрослыми аккуратными людьми в одинаковой темной униформе. Смешной каркающий уродец на трибуне, подвижная кукла с черным квадратиком усов под носом. Он вопит, как охрипшая кладбищенская ворона, он выбрасывает руку так энергично, что кажется, она сейчас оторвется от туловища, полетит в небо со свистом китайской петарды, врежется в маленькую хрупкую луну и расколет ее, как фарфоровое блюдце. Уроду вторит могучий гул толпы, похожий на раскат грома. «Хайль!»
Во сне Василиса решила, что умерла и попала в какое-то другое измерение. Ну что же, всякое бывает. Мало ли, куда человек забредает в своих снах? В другом измерении пахло одеколоном: смесь свежего огурца и хвои. Краски казались незнакомыми. Цветовая гамма вроде бы та же, но состав другой. Как если бы ее родной, привычный мир был написан акварелью, а этот, чужой, маслом.
Все кругом лоснилось и блестело. Теней, полутонов не было вовсе. Много черного и красного. У всех чистая обувь.
– Отто! Отто Штраус!
Отчетливый звук чужого имени на чужом языке заставил Василису обернуться, словно это обращались к ней лично. В дрожащих отсветах факельных огней она увидела круглое бледное лицо. Зеркальный блеск пенсне, усики. Нижняя челюсть скошена к шее, как будто лицо не доделали, а потом, спохватившись, наспех прилепили под губу маленький круглый подбородок. Виски и затылок выбриты, темные волосы напоминают плотную круглую шапочку. Василиса не знала этого человека, но почему-то обернулась, когда он произнес: «Отто Штраус». Ответила ему вместе с кем-то, чужим голосом, на чужом языке: «Здравствуй, Гейни!» И почувствовала влагу его холодной, слабой ладони при рукопожатии.
Гейни, старый приятель, бывший одноклассник, в новенькой красивой форме. Френч сидит изумительно, плечи кажутся шире, спина прямей. Надо записать имя и адрес портного. А еще говорят, что не осталось в Берлине приличных портных.
Василиса узнала место действия и без всякой подсказки определила время: тридцать третий год. Язык, разумеется, немецкий. Голос мужской, глуховатый, низкий. 1 Она так удивилась, что пришла в себя, открыла глаза, увидела мутное небо, темные верхушки елок, бледный маленький диск, то ли луны, то ли солнца.
Что это было? Сон? Галлюцинация?
Пожар давно остался позади, но воздух пропитан гарью. Василиса поклялась себе, что больше отдыхать не будет, пока не отыщет что-нибудь, похожее на человеческое жилье, или не выйдет к дороге.
Она шла дальше, потеряв счет времени, иногда поедая какие-то ягоды и листья, отдыхая все чаще и дольше.
«Еще сутки, и я начну умирать», – подумала она со странным спокойствием, словно не о самой себе, а о ком-то другом, далеком и безразличном. Тут же вспыхнула следующая мысль, совсем уж ледяная:
«А что, если это уже произошло? Мне только кажется, будто я иду по лесу, на самом деле меня нет. Я осталась лежать на берегу той узкой теплой речки или утонула в болоте».
В ушах нарастал гул, такой отчетливый, что казалось, над головой кружит вертолет. Но небо было пустым и тусклым. Ни души рядом, никто не мог подтвердить ей, что она жива. А самой себе она почти не верила.
Лес то редел, то густел. Вдали, на пригорке, показался купол с крестом. Сначала Василиса решала, что это мираж. Отдохнула немного, посидела на опушке. Купол не исчезал. У нее открылось второе дыхание. Где церковь, там и деревня, только бы хватило сил дойти. Она старалась не смотреть на свои распухшие черные ноги, на руки, которые покрылись глубокими ссадинами и крупными тугими волдырями.
Опять стало темно. Василиса потеряла из виду купол С крестом и продолжала идти наугад, в полусне. Лес кончился, она оказалась в открытом поле, ступила на колючую свежескошенную траву. Ноги прожгло такой адской болью, что перехватило дыхание. Но боль придала сил. В туманной голове засветилась простая утешительная мысль: если недавно косили траву, значит, какая-нибудь деревня должна быть совсем близко.
Из сумрака проступила светлая стена часовни, потом темные силуэты крестов, пирамидок со звездами. Василиса добрела до часовни и села на землю, прислонившись к стене.
ГЛАВА ПЯТАЯ
– Полно вам, расслабьтесь, – снисходительно улыбнулся Кумарин, – у нас с вами вполне легальный контакт. Кстати, первый за все эти годы. Вы сегодня же сообщите о нашей встрече, кому сочтете нужным.
Для руководства ЦРУ контакт Григорьева с бывшим шефом мог действительно считаться легальным. После 11 сентября между российскими и американскими силовыми структурами было подписано несколько соглашений о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. Генерал Кумарин числился почетным членом Временного Объединенного совета ветеранов спецслужб. Полковник Григорьев числился там же консультантом.
– Мы с вами теперь союзники. Жаль, что мы сейчас во Франкфурте, а не в Дрездене. А то у нас получилась бы встреча на Эльбе. Это было бы красиво, вполне символично, – продолжал балагурить Всеволод Сергеевич, размазывая масло по рогалику.
– M-м, – грустно промычал Григорьев, – остроумное сравнение. Но в той войне союзники встретились на Эльбе, когда самое неприятное было уже позади. А у нас все только начинается.
– Правильно, – кивнул Кумарин, – должно же время хоть чему-то учить. Слушайте, а почему вы мне совсем не рады? Неужели не соскучились? Мы не виделись два года.
– Я рад, – вяло соврал Григорьев и поискал глазами кого-нибудь, чтобы заказать чашку приличного кофе.
– Злитесь из-за Маши? Напрасно. Я ведь даже не приблизился к ней тогда, два года назад, в Москве. Я просто отправил ей бутылку хорошего вина. Она сидела в ресторане с милым молодым человеком, майором милиции. Я не стал им мешать. Я отлично помню ваши тихие родительские истерики. – Кумарин скорчил глупую рожу и зашептал, склонившись к Андрею Евгеньевичу: – «Оставьте мою дочь в покое! Не трогайте Машку!»
– Я и сейчас могу это повторить.
– Не надо, – Кумарин сощурился, как кот, и покрутил головой, – это уже не смешно, и даже обидно. Я что, совратитель малолетних? Маньяк сумасшедший?
– Есть немного.
– Ну, спасибо, – Всеволод Сергеевич фальшиво рассмеялся.
За те два года, которые они не виделись, Кумарин изменился. В нем появилось нервозное шутовство. Он не мог сказать ни слова в простоте, все, что слетало с его уст, должно было сверкать остроумием и запоминаться слушателями, как афоризм.
В течение последних двух лет Григорьев, сидя у себя Бруклине, изучая российские средства массовой информации, все чаще встречал физиономию своего шефа на телеэкране и на страницах глянцевых журналов. Умнейший, хитрейший Кумарин, глава УГП, серый кардинал, человек, предпочитавший всегда оставаться в тени, теперь с удовольствием мелькал на экране телевизора в разных политических ток-шоу, охотно давал интервью, позволял снимать себя на премьерах и презентациях. Это было нехорошо, опасно. Григорьев видел, что делает с людьми эпидемия пиар, как деградируют самые сильные и талантливые. Режиссеры перестают снимать кино, писатели не пишут книг, политики и чиновники, наоборот, пишут книги, умильно излагая подробности своих поучительных биографий. А потом устраивают шикарные презентации этих книг и самим себе платят щедрые гонорары. И все, словно по чьему-то издевательскому приказу, становятся тусовщиками, или, по-русски, толпыгами. Разодетые, важные, толкутся в телестудиях, на всяких презентациях, церемониях, галдят, как куры в курятнике, самозабвенно грубеют и глупеют на глазах у всей страны.