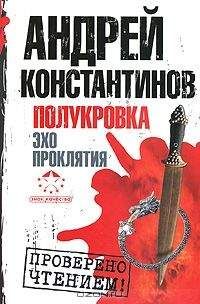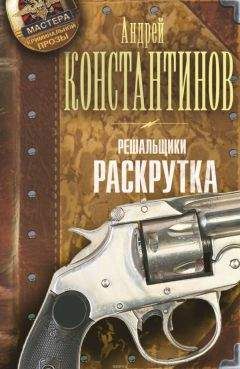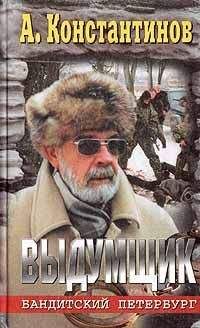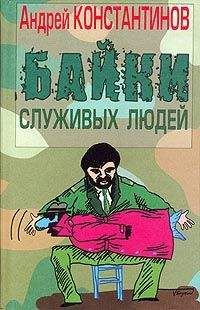Андрей Константинов - Полукровка. Крест обретенный
— Вы обвиняетесь в убийстве господина Самвела Тер-Петросяна!
Самсут покачнулась. В первые секунды она поняла не всю фразу, а только то, что Самвел убит. По какой-то странной игре судьбы или природы, подобно тому как он увидел в ней воплощенную память о своей так рано ушедшей в небытие матери, так и Самсут в конце концов начала чувствовать в нем лишь только несколько раз виденного ею родного деда, о котором всегда мечтала. Конечно, в глубине души она понимала, что со стороны Самвела за их отношениями так или иначе стоит чувственность. Да и сама она порой не могла не признать, что в старике все еще горит если не чисто мужская привлекательность, то во всяком случае — сильное обаяние. Им было непросто, но хорошо друг с другом. Самвел часто мог бросить дела и повезти ее куда-нибудь на Санторин, который так любил Наполеон, или на Сарос, похожий на удивительный лиловый цветок, чудом поднявшийся посреди моря. Они поднимались к Парфенону, и он объяснял ей, что вся прелесть храма заключается в том, что в нем нет ни одной правильной линии, все они немного изогнуты, скошены, выпуклы или вогнуты, что и создает ощущение жизни и легкости. А самое главное — он много рассказывал ей об Армении, о той настоящей Армении, которая оказалась когда-то под пятой османов. Эти рассказы были увлекательными и жуткими, но Самсут впивала их, как впивают чистую родниковую воду — и глаза ее становились ярче, спина прямей, а лицо нежнее. И, засыпая, она часто повторяла так понравившееся ей стихотворение, которое старик читал ей на ночь вместо «спокойной ночи»:
Погляди, сестра моя, погляди,
Ранен в сердце я, тяжким окутан мраком,
Исцели эту рану в моей груди
Ах, утешь меня. Я так много плакал.
Слезы доброй рукой сотри с очей,
Не давай мне плакать, я столько плакал,
Ото лба туман отгони, развей,
Пожалей меня. Я так много плакал 11.
И под эти убаюкивающие слова Самсут сама начинала тихонько плакать, но не печальными слезами взрослых, а так, как плачут в ранней юности, о том, что все еще впереди и чего-то важного все никак не догнать, не схватить, не понять…
И вот теперь ничего этого не будет! Но кому понадобилось убивать его? Наверное, это конкуренты, ведь в капиталистических странах всегда так, никто ни перед чем не остановится?
— Прошу вас встать и следовать с нами!
Ах, Боже мой, ведь в этом обвиняют ее, Самсут, которая, кроме нежности и благодарности, ничего не испытывала к знаменитому соковому магнату!
В каком-то оцепенении она вышла из виллы под конвоем трех полицейских, а около бассейна уже стояли все её обитатели, и их молчание было гораздо хуже криков, проклятий и угроз, которыми, казалось, так и были переполнены все вокруг. Почти машинально Самсут выхватила из толпы окаменевшее от горя лицо Нуник-ханум и заплаканное — младшей дочери, Манушак. Но нигде не было видно ни Сато, ни Саввы…
* * *
Самсут уже который час смотрела в окно, толком даже не осознавая, что она там видит. А там, как раз напротив полицейского управления, где находились камеры предварительного заключения, располагался дворец Правительства. И перед ним сутки напролет, сменяясь каждые два часа, несли службу эвзоны — солдаты национальной греческой гвардии. Поначалу Самсут, еще находясь в состоянии шока, никак не могла понять — кто эти люди? Что, впрочем, немудрено, ибо греческие воины были одеты по какой-то старинной военной моде: в белые шерстяные юбки и в кожаные туфли с носами, загнутыми, как у гауфовского Карлика-носа… Ах, как они с маленьким Ваном смеялись и плакали тогда над злоключениями несчастного карлика — не к месту вспомнилось Самсут, и она снова заплакала. Кто бы мог подумать, что заграница, из которой столько ее знакомых приезжало с самыми радужными впечатлениями, для нее обернется угрозами, насилиями, погонями и тюрьмами.
«Может, это все моя несчастная армянская судьба? — опять не к месту подумалось ей. — Ведь армяне всегда были несчастными, изгнанниками. Как там говорила бабушка?… Пандухты? Да, и еще была какая-то поговорка на эту тему, что-то про еду… А, вот — «хлеб пандухта горек, а вода — отрава». Вот именно. Самое главное, что необходимо человеку в жизни — хлеб и вода.
Впрочем, кормили здесь, как и в кипрской камере, вполне прилично и даже на обед давали местное пиво «Альфу». Честно говоря, так Самсут не питалась даже дома. Здесь, в смысле разнообразия продуктов, особенно овощей, фруктов и всяких даров моря…
Первый день Самсут еще кричала, что-то доказывала, требовала российского посла и просила связаться с Овсанной Симеоне из таможенной полиции Кипра в Ларнаке. Но бесстрастные греческие полицейские выглядели в своей черно-синей форме словно истуканы, и упорно делали только то, что считали нужным. А именно:
— водили ее на допрос к толстому веселому следователю, глаза которого ужасно напоминали глаза-маслины грека Саввы;
— приносили еду три раза в день;
— молчали, как рыбы.
За эти несколько дней Самсут даже научилась разбирать в их легкой, торопящейся гортанной речи отдельные слова, вроде «калимэра» 12 и «калиспэра» 13 и подозрительно знакомое словечко «эфхаристо» 14. Но ведь, кажется, это было какое-то церковное слово. И совершенно непонятно: почему здесь оно слышалось от всех направо и налево?
Но самые ужасные секунды Самсут пережила тогда, когда после одного из допросов за дверью оказалась гомонящая толпа журналистов, заблестели вспышки камер и фотоаппаратов. Причем среди греческих слов Самсут явственно различила и английские, и русские. Конечно, едва ли подобное известие дойдет до глухого украинского села Ставищи, но по каналу новостей в Питере мелькнуть очень даже может. А там, дома, достаточно увидеть подобный сюжет хотя бы кому-нибудь одному из ее знакомых… Самсут густо покраснела, не только лицом, но и плечами, и грудью, и инстинктивно попыталась закрыть лицо руками. Это в чем-то было даже хуже того, когда ее, еще лежавшую на постели с закрытыми глазами и переживавшую неприятные ощущения сна, вернул в реальность вежливый, но жуткий оклик полицейского.
Потом ее еще два раза возили на виллу, к несчастной беседке, где укладывали бутафорское тело, и заставляли показывать, где и как она стояла в ту ночь, как толкала, как снимала кольцо, как при борьбе была выбита у нее из руки золотая зажигалка… Чудовищная нелепость происходящего убивала Самсут, и она теряла всякую способность к размышлению, к логике, впадая в какую-то прострацию. Единственное, что она твердо заучила и запомнила, так это требование посла. Поэтому она упрямо повторяла его на каждом допросе.
Наконец, на третий день, ее вызвали к жизнерадостному следователю господину Харитону, и там, в кресле у стола, оказался еще один человек, в безличном костюме и с таким же безличным лицом разведчика.
— …Второй секретарь посольства Российской Федерации Николаев, — представился он, едва приподнимаясь. — Я предпочел бы остаться с подозреваемой Головиной вдвоем.
Харитон с радостью ушел (вероятно, отправился в близлежащую псистарью 15), оставив у дверей только двух молчаливых полицейских.
— Я готов выслушать ваши пожелания, Самсут Матосовна, — не меняя интонации, предложил второй секретарь.
— Вы, что, действительно верите в весь этот бред? — ужаснулась Самсут.
— Выбирайте выражения, Самсут Матосовна! Речь идет о правосудии дружеского государства, имеющего с нами…
— Да знаю я, знаю! Но вы сами подумайте, зачем мне его убивать?… Я от него ничего, кроме добра, не видела! Он предложил мне такую работу, он ко мне… как к дочери относился!
— Однако в деле, насколько я знаю, есть показания, что у вас с хозяином фирмы была интимная связь. Или, во всяком случае, убитый ее домогался.
— А, может быть, что это я… домогалась? — зло огрызнулась Самсут.
— Это там тоже есть, — спокойно ответил секретарь. — Старик был холост, богат… Иначе, зачем же вам было дарить ему прядь своих волос?
Самсут в отчаянии закрыла лицо руками.
— Вы, наверное, все-таки ознакомились с моей жизнью в России… Разве я похожа на авантюристку и убийцу? — наконец, выдавила она последний аргумент.
— Но ведь история с вашим появлением здесь тоже имеет под собой какую-то основу? — невозмутимо вопросом на вопрос ответил бесстрастный Николаев. — И потом что это за странные разговоры о каком-то баснословном наследстве?
Отвечать было нечего.
— Но разве вы не обязаны просто защищать своих граждан? Ведь американцы давно бы уже такой скандал подняли!
— Обязаны. И защищаем. Но надежды, Самсут Матосовна, прямо вам скажу, мало — все улики против вас, вы сами видите.
— Но хоть вы-то как русский человек, верите, что я тут не при чем? — всхлипнула Самсут, уже просто всячески оттягивая тот момент, когда беседа закончится, и она снова окажется в камере — теперь, вероятно, уже надолго, если не навсегда.