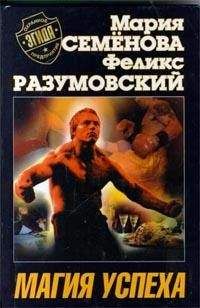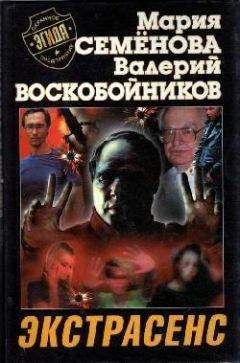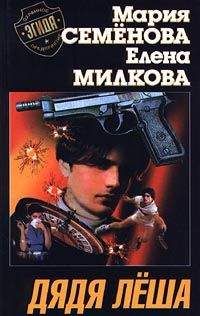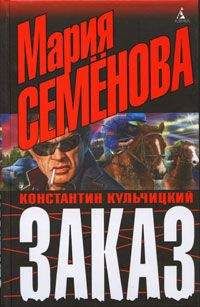Валерий Воскобойников - Те же и Скунс – 2
– Делай, что говорю!.. – свирепо заорал парамедик. – Ломай к чёртовой бабушке, умирает он, пони маешь?!!.
Доктор-интерн, всего вторые сутки работавший на РХБ[63] и привыкший ещё далеко не ко всему, с чем может столкнуться «штурмовая» бригада, вдруг странно позеленел, и в глазах появилось отсутствующее выражение. Старший врач сгрёб его за грудки, выматерился и сунул в руки появившуюся неведомо откуда металлическую фляжку. Тот отпил, сразу перестал икать и посмотрел отрезвевшими глазами на старшего:
– Что мне..? А… понял…
Флакон с солевым раствором и препаратами, под нимающими давление, мгновенно повис на специальной штанге под потолком, толстая, косо срезанная игла с мягким хрустом вдвинулась в тело…
Парамедик по-прежнему беззвучно матерился под нос, присматривая за Фаульгабером – тот всей силой, всем весом прижимал готовую окончательно разорваться артерию. Интерн склонился над чёрным чемоданчиком, стоявшим на откидном столике, и набирал из прозрачных флаконов сильнодействующие гормоны. Старший врач ожесточённо бил по кнопкам «Алтая»:
– Центр?!. Лена, слышишь? Это Федулин, двенадцатая станция, бригада двадцать пять – тридцать два! Слышишь, да? У меня огнестрельное брюшной полости плюс ожоги второй-третьей не меньше пятидесяти процентов… Куда?! Понял, Будапешт, едем… предупредите реанимацию…
Повернулся в сторону кабины и крикнул водителю:
– Петя! Будапештская, три! И очень быстро!.. Ты меня понял?! ОЧЕНЬ!
Когда «скорая» тронулась, всё вокруг озарилось ослепительным светом – это огонь добрался до бензовоза, и то, что ещё сохранялось в цистернах, протуберанцами взвилось в низкие тучи. В ярких сполохах пламени «Мерседес» генерала Храброва смотрелся весьма специфически, и какой-то расторопный телевизионщик именно тогда отснял кадры, которым суждено было стать знаменитыми. А немного позже над канализационными люками начали с грохотом взлетать тяжёлые крышки, – пламя, проникшее в подземелья, неудержимыми фонтанами вырывалось наружу. Это было похоже на прощальный салют.
«Скорая», бешено завывая, мчалась прочь от пожара. Семён Фаульгабер стоял внутри, надёжно расклинившись. Его кулак был глубоко вдвинут в Сашино тело.
– Держи! Держи!.. Если хочешь, чтобы жил, – держи!.. – точно заклинание, приговаривал врач. Он-то видел, что шансов было очень немного, но полагал, что попытаться всё-таки стоило.
Машина прыгала на глубоких, как после бомбёжки, ямах в асфальте, газовала и с визгом тормозила, когда какая-нибудь сволочь медлила уступить ей дорогу. Фаульгабера ничто не могло сдвинуть с места. Он держал. Держал ускользающую Сашину жизнь. Он не собирался позволить ей ускользнуть только потому, что у него, видите ли, устала рука.
За «скорой», не отставая, неслись оба эгидовских внедорожника.
Дорогой дон Педро!.
Разыгрывать колику было не столько трудно, сколько противно. На соседней койке лежала бабушка восьмидесяти пяти лет, которую, если Катя верно уловила из разговоров, знали уже во всех питерских больницах, потому что она в каждой из них побывала. Родственники были готовы для бабушки на многое, даже возили её несколько раз в легендарный Трускавец, но ей и Трускавец не помог. Почки неотвратимо разрушались, бабушка лежала на правом боку и почти всё время спала, а когда просыпалась, начинала слабо постанывать.
– Доченька… – иногда обращалась она к Кате, и та, уже зная, о чём будет просьба, подставляла ей судно.
В другом углу палаты лежала женщина, работавшая тепличницей. Это было, с одной стороны, хорошо, так как означало, что какие-то теплицы в пригородных совхозах ещё функционируют. С другой стороны, мордастая тётка ничем не напоминала тех мудрых и скромных тружениц, которых раньше так любили киношники, снимавшие «про народ».
– Пятрушка!.. – кричала она в столовой, если видела у кого-то в руках зелёный пучок. – А мы с ей работам!..
Кате захотелось придушить тётку в первый же вечер, когда стали рассказывать анекдоты, и тепличница тоже рвалась принять участие, но не решалась, потому что «Катенька тут у нас помоложе, при ней не могу». Катя тогда молча вышла за дверь и до отбоя не возвращалась. Потом ей посчастливилось услышать один из анекдотов, от которых так бдительно ограждали её девичью нравственность. Он был не смешным и абсолютно дебильным: две неуклюжие фразы, служившие предлогом для нескольких матерных слов.
Третья женщина готовилась к операции по удалению камня. Подготовка состояла в том, что она непрерывно вязала – торопилась закончить. Четвёртая, Катина ровесница, ничего не могла есть, только пила воду. Она не жаловалась на боль, просто лежала в постели и пыталась читать книжку, но через каждые три-четыре часа вставала, плелась к сестричкам и просила «вколоть». Катя видела, как её мутило от одного духа съестного. Остальная палата считала, что она проявляет силу воли и не посещает столовую, так как надумала похудеть.
Ходячий контингент гулял по длинному коридору, и каждый придерживал больной бок ладонью, и Катя с убийственной остротой чувствовала, что занимает чьё-то место, что из-за неё не может получить помощь человек, которому действительно необходимо лечение. Сама она если и испытывала лёгкий физический дискомфорт, то только потому, что тренированные мышцы не получали привычной нагрузки. Сначала она терялась в догадках, чего ради Плещееву понадобилось её сюда загонять, да ещё в обстановке строжайшего неразглашения. Когда по радио сообщили о «невероятно жестоком» убийстве Владимира Игнатьевича Гнедина и ранении гнединского телохранителя. Катя поняла всё.
Как раз в тот день, обвязав – такая уж мода была в урологическом отделении – поясницу тёплым платком, она средним шагом наматывала по коридору ежедневные километры, и её остановил молодой медик:
– Девушка, вы так не простудитесь? С короткими рукавами?..
– Нет, – сказала Катя. – Не простужусь. Она никогда не была особо привлекательной для мужчин, но доктор в ней, видно, что-то нашёл. Или просто решил развлечься от скуки.
– О-о… – Он по-врачебному решительно взял её левую руку и провёл пальцем по предплечью, по длинному ровному шраму, перечёркнутому едва заметными следами швов. – Господи, что это такое?
Катя пожала плечами. Разговор начал ей надоедать.
– Нож, – сказала она.
– Кошмар, – медик накрыл шрам ладонью. – До чего дожили, с ножом на девушку нападают!..
Катя снова пожала плечами. И нанесла удар ниже пояса.
– Вообще-то это я нападала, – сказала она. – Я в группе захвата работаю.
Уточнять, что в этой самой группе она была второе лицо, Катя не стала. Даже простое упоминание о месте её службы было патентованным средством от нежелательных кавалеров. Вот и доктор сразу как-то поскучнел и заторопился по неотложным делам. К вечеру, правда, он приободрился и сделал новый заход, но у Кати уже сидел Лоскутков, и врач, посмотрев на синеглазого красавца командира один раз, усох окончательно. Прошагал через холл, словно ничего не случилось, и больше не появлялся.
Кате, впрочем, было не до него. Саша от лица всей «Эгиды» принёс ей огромный термос с отваром шиповника и половину заставил немедленно выпить, утверждая, что это очень полезно. А потом, уже по собственной инициативе, учинил подробный допрос. Он желал знать всё: где и насколько сильно болит («Только не врать, а то я тебя знаю…» – и было полностью очевидно, что он мысленно испытывал все те страдания, которых не испытывала она). Вышел ли уже камешек, что показал рентгеновский снимок («Ты их тут прогни, чтобы ультразвук тебе сделали, а то есть такие, что рентгеном и не берутся. Может, мне с кем поговорить?..»). Какие делали процедуры, все ли есть лекарства и, главное, не надо ли чего раздобыть… Катя сидела рядом с ним на больничном диване, нахохлившись и разглядывая квадратики линолеума, и, наверное, в самом деле выглядела серьёзно больной.
Потому что обманывать Сашу было нечеловечески тяжело. Ещё тяжелей, чем даже отца. Потому что на самом деле желание у неё было только одно: обнять его, крепко-крепко уткнуться лицом ему в грудь и… что дальше, она плохо себе представляла. Наверное – разреветься. Она готова была разреветься и так, безо всяких объятий. И в особенности – потому, что знала заранее: не повернётся она к Лоскуткову и руки ему на плечи не вскинет. Просто не сможет. Она прошла слишком долгий путь, чтобы жить своей сегодняшней жизнью, и… похоже, на этом пути разучилась быть слабой, женственной, нежной… похоронила в себе что-то важное… что-то самое важное…
– Кать, ты в порядке?.. – спросил Саша и с беспокойством заглянул ей в лицо, и она сообразила, что перестала ему отвечать и просто сидит, отвернувшись и пришибленно съёжившись. – Кать, тебе плохо? Тебе, может, доктора?..
И вот тут она поднялась и молча ушла от него к себе в палату. Какие у него были глаза, когда она уходила. Несчастные, недоумевающие, беспомощные…