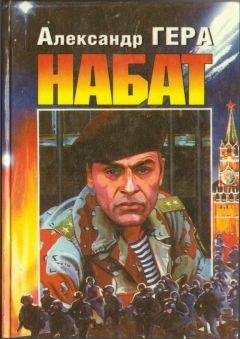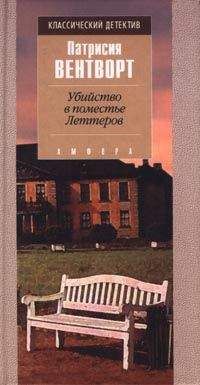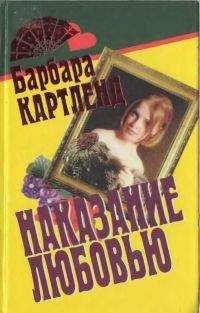Николай Псурцев - Голодные прираки
В словах Ромы, обращенных, к Нике Визиновой, можно было уловить оттенок иронии, уж слишком четко, слишком медленно, слишком веско произносил слова Рома, вроде как издеваясь над тем, кому речь его была предназначена. И при первых словах его я даже было испугался, что Ника сейчас возмутится, вынет из рукава или из штанины турецкую секиру, или богатырский меч, или крупнокалиберный пулемет, или что там у нее еще припрятано, кроме ножа-штыка, и раскрошит нас с Ромой до полного нашего исчезновения. Но все получилось иначе – Ника слушала Рому, и слушала без возмущения, без раздражения, внимательно и, кажется, даже не без удовольствия. И я подумал в который раз о том, что, как бы я хотел научиться тому, что умеет Рома. С помощью чего, думал я, он достиг сейчас такого эффекта – с помощью тембра голоса, верно, там где надо поставленных слов, взгляда или всего вместе?
«В мужском платье, – продолжал Рома, – вы кажетесь очень эротичной, вдохновенной, мощной, неспешной, уверенной, все понимающей, усмешливой, решительной, одним словом, очень похожей, простите, на мужчину…»
Мы пересекли кольцевую дорогу. Два краснолицых гаишника с автоматами Калашникова на плечах проводили нас долгими взглядами, но не остановили…
В воздухе висели капельки влаги, покачивались, как елочные игрушки на ниточках, сверкали на солнце и переливались разными цветами. Скоро, наверное, начнется дождь. Или он уже начался, только мы его пока не заметили.
«И я сейчас, – говорил Рома, – я представил себя женщиной, ухоженной, капризной, знающей и любящей секс, стройной, ароматной и призывной, и глазами такой женщины я посмотрел на вас как на мужчину и, признаюсь, я безудержно захотел вас. Безудержно» – «Мне приятно слушать твои слова, – незнакомо низким голосом сказала Ника. – Мать твою, – вскользь беззлобно добавила она. – И твою тоже. – Она повернулась ко мне, тяжело колыхнув полями своей фетровой шляпы. – А кому их было бы неприятно слушать? Какому-нибудь идиоту. Или мертвяку. Или тому, у кого грязная вокзальная девка позавчера отгрызла все, чем он мог гордиться по этой жизни», – и Ника неожиданно захохотала громко и грубо, запрокинув назад голову в широкополой фетровой шляпе. И смеялась она долго. И чем дольше я слышал ее шершавый смех, тем сильнее во мне росло желание прихватить сейчас двумя руками ее голову, сжать крепко и свернуть ей шею, одним резким и точным движением, и выкинуть женщину затем, неживую, на обочину, и покатить дальше, быстро пересев за руль, и посвистывая легкомысленно что-нибудь из Баха, Иоганна-Себастьяна. Никогда до сих пор, до самой той минуты, секунды, в которой я сейчас нахожусь, я не мог представить себе, что можно так хотеть женщину. Я был готов даже на убийство… Мать мою, какие страсти! Я посмеялся вместе с Никой. После чего закурил вкусную сигаретку «Кэмел». А Ника между тем к моему удовольствию, перестала хохотать и смеяться и даже улыбаться, и вздохнула и приготовилась опять что-то говорить. И говорила: «Ты не знаешь, придурок, что только женщина, может знать, каким должен быть настоящий мужчина, И причем каждая женщина. Каждая, поверь мне, придурок. И я настаиваю на том, что каждая знает, каким должен быть настоящий мужчина. И если когда-нибудь женщина, страшненькая или красавица, неважно, глупая или гениальная, неважно, безногая или трехногая, зубастая или слепая, агрессивная или безропотная, неважно, дочь.дворника или дочь военного, или дочь музыканта или дочь жулика, неважно, скажет тебе, что ей по нраву мужчина скромный, тихий, незлой, внимательный, потакающий любым ее желаниям и капризам, доброжелательный, в меру умный, в меру образованный, не обязательно красивый и даже не обязательно симпатичный, но обязательно надежный, ты не верь ей, мать ее, сукину дочь! Она врет. Безбожно. Гадко. И отвратительно. Она врет. И тебе. И себе самой, мать ее, суку! Потому что боится признаться себе, что мечтает она совсем о другом мужчине. Она боится, что с тем, о котором, вернее, с тем, о каком она мечтает, жизнь ее будет стремительной, насыщенной, неожиданной, беспокойной, конечно же, до слепоты яркой и болезненной непременно, полной взлетов и падений, полной обжигающей страсти и не менее обжигающего холода, полной порушенных судеб и полной, возможно, смертей и полной, конечно же, счастья… Одним словом, – Ника усмехнулась, – именно последнего боятся женщины больше всего, они боятся счастья. Они боятся счастья, поверь мне, придурок… – Ника прикурила сигарету «Голуаз», сплюнула обильно в окно и решительно заговорила дальше: – А мечтает любая женщина о мужчине, который в представлениях ее примерно такой, примерно, всего лишь, примерно. Он строен и крепок и обязательно высок. И обязательно красив. Лицо такого мужчины может быть разным: длинным, овальным, круглым, полным, худым, носатым, щекастым, тонкогубым, или, наоборот, толстогубым, не имеет значения. Красивыми должны быть глаза, и только глаза. Ведь именно глаза «делают» лицо мужчины. А красота глаз, в свою очередь, заключается ведь не только и не столько в их цвете, в размере ресниц, а в наличии в них ума, внимательности, решительности, спокойствия, иронии, бесстрашия. Мужчина должен уверенно и естественно двигаться, так, как двигается знающий себе цену спорт смен. Он должен быть грубым и нежным одновременно; Страстным и равнодушным. Бесконечно агрессивным и неожиданно добрым. Плачущим навзрыд над могилой друга и плюющим на собственную смерть. Сомневающимся во всем и с победным рычаньем преодолевающим возникающие сомнения. Пугающийся собственной тени, но тем не менее неотступно следующим в сторону страха, ибо это единственное его направление, его путь – в сторону страха… Он обязательно должен иметь дело, которое может не любить, но которое тем не менее делает мастерски. Охотник не должен любить охоту, он должен уметь хорошо охотиться. И последнее – он должен быть всегда чисто вымыт, должен хорошо пахнуть, должен со вкусом одеваться и как можно чаще смотреться в зеркало, контролируя отточенность своих манер, жестов, мимики…» – «Вы забыли о любви, дорогая Ника», – заметил Рома. Он, не отрываясь, смотрел на Нику. Мне так казалось. Только казалось. Потому что я же ведь не видел его глаз. Но я видел зато, что плоскость его темных очков была направлена точно на лицо Ники. «Для женщины это не имеет значения. – Ника брезгливо скривила губы и выплюнула в окно окурок вонючего «Голуаза». Окурок до окна не долетел, сквозняком его развернуло в мою сторону. Я видел, как он мчится точно мне в левый глаз. Я едва успел увернуться. Окурок с грохотом врезался в заднее стекло автомашины. Сухо звеня, посыпались вниз табачные крошки. – Главное, чтобы этот мужчина был рядом. Женской любви хватит на двоих. Именно в этом-то вся суть. Должен ведь любить ты, а не тебя. Вот где истинное счастье для женщины. И только так и никак иначе».
Через километров пять после кольцевой мы съехали с Минского шоссе на узкую асфальтовую дорогу. Не успели углубиться в пожелтевший лес, как нас тут же обстреляли из рогаток сто пятьдесят шесть мальчишек (я успел сосчитать). Мальчишки пили французское шампанское и кричали нам– вслед революционные лозунги. В одном из мальчуганов я узнал маленького Дантона, в другом – не менее маленького Робеспьера. Пока они еще, видимо, дружили и пили из одной бутылки.
Разглядывая мокрый холодный лес, я вдруг ощутил незнакомую мне доселе потребность рассказать какую-нибудь сказку, окружающим или самому себе, не имело значения. И я начал: «Жили-были два убийцы…» Однако славная Ника, моя первая и единственная на сегодняшний день любовь, ясная и обворожительная, неумеренная и утопительная (в смысле притопить может, не глядя, а утопить, не слыша… красота – это страшная сила), аппетитная и голодная, эрректирующая (заводящая) всякого мужчину (меня-то так уж точно) в любом наряде – малышковом, детсадовском, школьном, студенческом, офисном, театральном, ресторанном, в никакой тем более, старушечьем, нищенском, больничном, инвалидном, кладбищенском, лесбиянском, гомосексуальном и, конечно же, в мужском, конечно же, в мужском, потрясающая Ника перебила меня… А я так, ТАК хотел рассказать сказку. Ника говорила: «И поэтому, то есть исходя из того, что я сейчас рассказывала, да так умно, да так складно рассказывала, я знаю, каким должен быть настоящий мужчина, мужчина, который может понравиться.с первого взгляда, мужчина, в которого может влюбиться и женщина, и мужчина тоже. И поэтому… – Ника сделала паузу и взяла в рот новую сигарету «Голуаз». При звучном соприкосновении сигареты с Никиными губами, я вздрогнул. Вздрогнув, сделал несколько тренировочных движений, позволяющих мне надеяться, что, приобретя за несколько минут достаточно приличную спортивную форму, я смогу увернуться и от этой сигареты. Ника говорила: – И поэтому, одевшись в мужской туалет, я веду себя так, как должен вести себя настоящий мужик, в которого, мать вашу, я сама могла бы влюбиться, мать вашу, так-растак, твою туда-суда, ядрена корень, всех вас на хер!…» Не успела Ника закончить, а Рому уже трясло от истерического хохота. Очки на его носу дрожали, потрескивая пластмассово, а слуховой аппарат отвратительно фонил, короткие волосы на Роминой голове от безобразного Роминого смеха то и дело на моих глазах закручивались в аккуратные спиральки и тотчас раскручивались из спиралек обратно, беззаботные и задорные. Руки у Ромы плясали на коленях, как два пернатых из одноименного лебединого балета. А внутри у Ромы хлюпало, булькало, чавкало, перекатывалось и переливалось. Короче говоря, странно было смотреть на Рому. Еще немного, казалось мне, еще чуть-чуть, и с Ромой что-то случится, и Рома умрет,, например, или Рома запоет, например, что-нибудь из Вагнера, например, или Рома съест автомобиль, например, в котором мы едем, и мы останемся без автомобиля и пойдем пешком через лес, через поля, как партизаны, остерегаясь постов и просясь на ночлег к добросердечным, патриотически настроенным селянам.