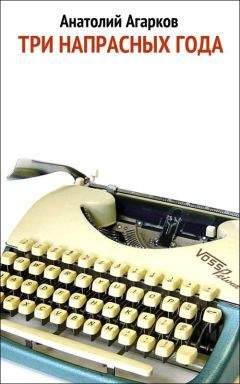Надежда Зорина - Пленница кукольного дома
— Хорошо. Приеду. Как раньше — во вторник и в пятницу.
— Не сердишься больше?
— Нет.
Я ее обманула — я все еще сердилась. Хотя вряд ли это можно назвать «сердилась», просто мне было очень обидно за Димку и отчего-то больно за нее.
Мама поднялась со скамейки и протянула мне руку.
— Пойдем, мне пора возвращаться в палату.
— Пойдем.
Я послушно встала, и мы пошли к ее корпусу. Всю дорогу молчали, но на крыльце, уже у самой двери — я всегда провожала ее до двери, — мама вдруг притянула меня к себе и зашептала на ухо:
— Ты помнишь, о чем я тебя просила?
— Ты разве просила о чем-то? — Я в недоумении смотрела на нее: зачем она шепчет? О чем таком она меня просила, что нужно шептать?
— Забыла? Таблетки. Ты обещала привезти мне таблетки. Церукал. От желудка. Ты поняла меня? Поняла, какие таблетки я прошу?
— Поняла. Церукал.
— Да. Церукал. Запомни. Они лежат на антресоли в «стенке» в третьей секции от двери, в коробке. Стеклянная бутылочка. Ну, ты увидишь, название написано на этикетке. Привези, хорошо?
— Привезу обязательно. До свидания, мама.
Мне захотелось поскорее уйти, но она меня держала за руку и не отпускала.
— Не забудь, Динка, мне очень нужно. — Она обняла меня и сильно, до боли, поцеловала, я даже ощутила привкус крови во рту. — И вот еще что: если сможешь, привези их завтра.
* * *Я все рассказала Димке. А в воскресенье мама умерла.
Я знаю, почему она умерла: потому что я все рассказала Димке. Все. А главное — последний наш разговор. Он не смог ей простить ненависти, пусть на одну только минуту возникшей к нему. Не смог простить. А может, Димка испугался, что мама окажет на меня дурное влияние? Я не знаю. Скорее всего, и то, и другое. Он сам повез ей таблетки в больницу — на следующий день, в субботу. А в воскресенье мама умерла. Заснула и не проснулась. Выпила таблетки, которые привез ей Димка, и умерла.
Больше мне не нужно ездить в больницу. Больше никто на меня не оказывает дурного влияния. Больше мама не может ненавидеть Димку — теперь его ненавижу я. Я никогда не смогу простить ему маминой смерти.
Утром позвонили из больницы. Было еще слишком рано, и мы с Димкой спали. К телефону подошел папа — он оказался дома, потому что было воскресенье и мы собирались все вместе поехать к маме. А потом он пришел к нам в комнату… Мама была права — он в самом деле испытывал лишь облегчение. Маскировал его изо всех сил под боль и горе, но врал, врал — никакого горя он не чувствовал! Зачем же тогда отец спасал маму? Зачем каждый раз успевал спасти?
— Дима, Дина! Вставайте! Ваша мама…
Лицо его было мокрым, как будто он смочил его под краном, — так люди не плачут. Папа закрыл лицо руками — наверное, ему стало стыдно, что он испытывает лишь облегчение, — и бросился к Димке. Вернее, на Димку. Он схватил его за плечи, вытащил из постели и с силой тряхнул.
— Ты был вчера в больнице, мне сказали! Это ты привез ей таблетки? Ты?
Димка испуганно вертел головой и делал вид, что ничего не понимает.
— Зачем ты привез ей таблетки?
— Это был церукал, папа! Мама просила, от желудка. Это был церукал. Папа, что с ней? Что с ней случилось, папа?
— Она отравилась. Таблетками. Уснула и не проснулась.
Димка заплакал в голос. Папа заплакал в голос. А я сидела в позе эмбриона в углу кровати и заплакать не могла — так больно мне было, так невыносимо больно.
— Это был церукал! Я не виноват, папа! Динка, я не виноват! Это был церукал!
— Вашей мамы больше нет, — жестко произнес отец. — Ты привез ей таблетки. Зачем ты повез ей таблетки, Дима? Почему ты ничего не сказал мне? Ее больше нет, понимаете?
Димка завизжал. Потом забился под кровать и визжал оттуда. Ужасно, противно. Так визжал, что папа испугался и полез его вытаскивать. Но Димка не давался, уцепился руками за ножку кровати и никак не отпускал. И тогда я подумала: может быть, он в самом деле привез церукал, а мама выпила какие-то другие таблетки?
Церукал, церукал, церукал… Маленькие безобидные белые таблетки от желудка… Почему-то они хранились на антресоли в «стенке», а не в аптечке. Там были и другие лекарства — в ампулах и в пластинках, я не стала тогда их рассматривать. А Димка, наверное, рассмотрел. И привез. Потому что мама на минуту его возненавидела или потому что оказывала на меня дурное влияние.
Папа отодвинул кровать и вытащил Димку. Тот все продолжал визжать. И тут папа сделал такую ужасную вещь! Он размахнулся и ударил Димку по лицу. Брат замолчал — от испуга и удивления, а я закричала и бросилась на отца. Я ударила его по спине кулаком, изо всех сил, как он Димку.
— Это был церукал! Дима ей привез церукал! А ты сам хотел от нее избавиться! Ты хотел с ней развестись, я все слышала!
Папа меня не услышал и не почувствовал боли в спине. Он вообще ничего не слышал и не чувствовал — он склонился над братом и что-то ему говорил странным, неестественным голосом, голосом робота. А Димка лежал на кровати, смотрел на него, не отрываясь, и слушал это страшное бормотание. Мне показалось, что отец говорит на каком-то непонятном, чужом языке, и я удивилась, как брат его понимает. Наверное, они оба сошли с ума, как мама. Наверное, теперь их обоих положат в больницу, и мы будем встречаться по вторникам и пятницам на нашей с мамой скамейке. А потом… Нет, они не умрут, я не Димка, я никогда, никогда…
— Это был церукал! — закричала я громко-громко, чтобы заглушить сумасшедшее бормотание отца, чтобы убедить себя, что это был на самом деле только церукал.
— Тише, тише… — Папа на секунду оторвался от Димки и повернулся ко мне. — У меня в кабинете в столе ампулы и упаковка шприцев, в верхнем ящике справа. Принеси. Да, там же вата и спирт в маленькой бутылочке. Живей, Дина!
Я бросилась в его кабинет, разыскала ампулы. Значит, лекарства у нас по всей квартире, на разные случаи. Теперь папа хочет Димке сделать укол. Какой укол? Димка маме принес церукал, и она не проснулась. А если и Димка не сможет проснуться? Папа его усыпит, как усыпляют больных собак, чтобы не мучались. Димка мучается от того, что мама… А папа испытывает облегчение от того, что она… И обвиняет Димку, и хочет его усыпить. Нет, если обвиняет, значит, не испытывает облегчения. Или если не испытывает, значит, не обвиняет и не хочет усыпить, значит, укол безобидный. Как церукал, если бы он был просто церукалом.
Я стояла с ампулами и шприцами в руках и не знала, что делать: отнести их папе или спрятать. Я никак не могла решить, никак не могла выбрать.
Не дождавшись меня, папа пришел сам.
— Что ты так долго? Нашла? Давай скорее!
И ушел. Очень быстро, почти побежал. А я осталась в кабинете, забилась в нишу между столом и книжным шкафом, обхватила колени руками, закрыла глаза и стала ждать — смерти или пробуждения моего брата.
* * *Димка не умер. Димка остался жить. И сейчас я ненавижу Димку. Если бы он умер, наверное, я бы его простила. Но он не умер.
Мы с ним совсем не разговариваем. Вернее, это я с ним не разговариваю. Не разговариваю, когда мы просыпаемся утром, не разговариваю, когда мы идем в школу, не разговариваю, когда возвращаемся домой. Даже на похоронах я с ним не разговаривала, и потому не знаю, по ком он плакал: по маме, по мне или из-за того, что привез в больницу в бутылочке из-под церукала.
Я устала, очень устала. Ведь это такая тяжелая работа — ненавидеть своего брата. Я хочу перестать ненавидеть и придумываю ему оправдания: маме так лучше, она столько лет мечтала о смерти, Димка только помог ее мечте сбыться…
Я прожила мамину смерть, как проживала ее самоубийства. Я побывала в роли убийцы. Я была мамой, я была медсестрой, которая ее обнаружила, я была Димкой и даже врачом, который поставил диагноз — смерть. Теперь я все знаю и, может, когда-нибудь смогу их простить.
В субботу после завтрака меня тошнило сильнее обычного, и очень заболел желудок, потому что вместо масла дали повидло, кислое сливовое повидло. Я сидела в палате у окна и ждала Дину — она обещала привезти церукал. Но вместо нее увидела Диму и очень расстроилась: он наверняка рассказал о моей просьбе отцу, а тот запретил передавать мне какие бы то ни было лекарства. Но я ошиблась — церукал он привез. И сразу выпила одну таблетку. А минут через пятнадцать поняла, что это совсем не церукал (Дима к тому времени уже ушел, он пробыл недолго), и на секунду испугалась: время пришло… А еще через секунду обрадовалась: теперь никто помешать не сможет. И я стала ждать ночи. Я выпила все таблетки — их в пузырьке оказалось десять. Попрощалась с Диной и Димой, закрыла глаза и начала проваливаться в сон — сон навсегда.
В субботу у меня было ночное дежурство. Мое отделение, в общем, спокойно — за два года работы ни разу ничего серьезного не произошло. Обычно мне удается даже часика три поспать на кушетке. Вот и в ночь с субботы на воскресенье все было спокойно. Я проснулась в полседьмого и решила обойти палаты перед подъемом. Зашла в десятую — под ногой что-то хрустнуло. В полумраке я не сразу разглядела, что именно. Оказалось, наступила на стеклянную бутылочку. Но не насторожилась, не поняла сначала, что бутылочка — причина беды. Подняла стекла, осторожно расправила этикетку — церукал. Странно. Кто-то из больных принес в палату несанкционированное лекарство? По правилам нашей больницы это почти преступление. Кто мог его совершить? В десятой палате только две больные — Тихомирова и Сухарева. Тихомирова! Она жаловалась на желудок — значит, она. Я включила свет и подошла к Тихомировой. Как странно она лежит, и лицо ее странного цвета, и рука так странно откинута… Пульса не было, я бросилась звать врача.