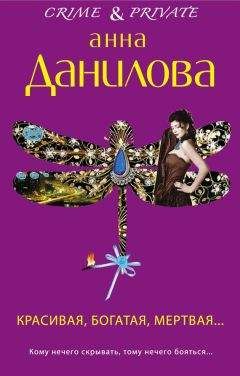Анна Данилова - Убийство в соль минор
— Я понимаю, что тобой движет простое женское любопытство.
— Нет, Ерема, это не любопытство. Я думаю, что моими родителями были музыканты. И что моя мать — пианистка. Довольно известная в С., потому что я вспомнила некоторые детали из моего детства. Помнишь, тот дом, о котором я тебе рассказывала. Так вот, там были люди, музыканты, они, как и эта женщина, играли на рояле, прогуливались на лужайке вокруг дома с бокалами, думаю, в них было шампанское…
— Да ты была ребенком! Откуда тебе знать, что было в бокалах?
— Может, я и не знаю, что именно они пили, но думаю, что это было шампанское. И люди эти, повторяю, музыканты. Они что-то праздновали. Я хочу попасть в это общество, Ерема. Я оттуда родом, понимаешь?
— Да ты со своими бабками можешь попасть в любое общество.
— Нет, Ерема, ты ошибаешься. Деньги, конечно, помогут. Но я хотела бы войти в этот круг органично, естественно, понимаешь? Чтобы меня не воспринимали как вдову бандита, решившую купить себе место рядом с ними, а как человека, имеющего непосредственное отношение к искусству, к музыке. Но выучиться музыке я не могу, этому учат с детства. А вот научиться понимать искусство можно. И первый шаг я уже сделала.
— Теперь понятно, зачем тебе понадобилось покупать столько книг по искусству.
— Тебе и об этом тоже доложили?
— «Лекции по живописи Ренессанса», «Искусство гомеровской Греции». Как видишь, я даже запомнил названия некоторых книг. А не проще ли было выйти замуж за какого-нибудь профессора из местных, чтобы подобраться к твоей матери?
— Зачем же за профессора, когда можно за молодого и талантливого пианиста? — Я почувствовала, как краснею.
— Так ты в него не влюбилась? — Ерема широко улыбнулся и поставил передо мной бутылку вина и фужер. — Этот блондинистый пианист, Сергей Смирнов. Ты целыми днями слушаешь его концерты. Он для тебя просто средство забраться с ножками в с-кий бомонд?
— А твои люди отслеживают и мои предпочтения в Интернете? — Я покачала головой.
Вот интересно, как бы я себя вела, если бы знала, что за мной следят? И как же это хорошо, что я не пустилась во все тяжкие, не завела себе любовников. Вот было бы стыдно перед Еремой!
— Кто они? Питерские?
— Не они, а он, это всего один человек. Московский сыщик, из бывших следователей. Очень толковый. Он присматривал за тобой.
— После того как я потеряла телефон?
— Ты его не потеряла. Это он его у тебя забрал, когда ты пила кофе в какой-то кондитерской. Обстановка была такая, что не нужно было, чтобы ты звонила мне. Надо было отрезать канал.
— Понятно.
— Знаешь, у меня было время заняться твоим вопросом. Но не для того, чтобы ты разыскала свою мать и взяла на себя ответственность за нее. Я никогда не понимал баб, которые бросали своих детей. И уверен, что она тебе не нужна. Тут дело в другом. Важно, чтобы она, случайно узнав о тебе (счета-то на твое имя), не стала разыскивать тебя. Я просто хотел оградить тебя от этого, а потому всерьез занялся ее поисками.
Я отодвинула от себя тарелку с рыбой. Услышанное потрясло меня. Выходит, Ерема решил оградить меня от собственной матери!
— А ты не слишком ли много на себя берешь? — вскипела я. — Тотальная слежка, а теперь еще и это! И что? Скажи еще, что ты нашел мою мать!
— Я нашел человека, женщину, которая заменила тебе мать на первых порах. И это она дала тебе свою фамилию.
— Удочерила, что ли?
— Нет-нет, там все гораздо проще. Соленая Елена Николаевна. Это она нашла тебя на ступенях детского дома.
— И? Ерема, не тяни уже!
— Соленая была директором этого детского дома. Однажды утром она просто шла на работу и увидела тебя на крыльце. Ты была завернута в одеяльце. Она взяла тебя и записала на свою фамилию. Понимаешь, таким, как ты, подброшенным детям, могут дать любую фамилию, какая только взбредет в голову руководству.
— Значит, она не удочерила меня, а просто записала на свою фамилию?
— Да. Повторяю, может, ты не поняла. Соленая Елена Николаевна была директором детского дома, и таких, как ты, брошенных детей там было немало. Не могла же она всех усыновлять и удочерять. Но она, по свидетельству людей, с которыми я лично разговаривал, относилась к тебе с особой нежностью, была привязана к тебе. Да что там, она опекала тебя практически до своей смерти!
— Как это?
— Она умерла, когда тебе было восемь лет. Умерла скоропостижно, от сердечного приступа.
— А я? Я могла бы поговорить с теми людьми, с которыми разговаривал ты?
— Смысл?
— Но я сама хочу обо всем узнать! Ведь речь идет обо мне, о моем детстве!
— Да хоть сто порций. Только не понимаю, зачем тебе все это, если речь идет всего лишь о директоре детского дома, а не о твоей матери. Ладно бы, она была хотя бы дальней, но родственницей или знала бы твоих родителей. А так… Просто женщина, которая уделяла тебе чуть больше внимания, чем остальные воспитатели.
Я заплакала. Ерема смотрел на меня с непониманием.
— С кем ты говорил?
— С одной воспитательницей.
— Ты ездил в С. ради меня?
— А ты как думала?
— Что еще она рассказала обо мне? Об этой Соленой?
Я вдруг подумала, что поездка в С. была спровоцирована мной, причем давно, когда я мучила Ерему вопросом, откуда вдруг у меня такая странная фамилия.
— Это ее звали Соль? — вдруг догадалась я. — Директора детского дома?
— Да. У нее кликуха такая была. Но баба она была добрая, хорошая, дети ее любили. Не воровала и другим не давала. Характер, конечно, не сахар, вот поэтому ее и прозвали Солью. Понятное дело, что тут сыграла и фамилия. Думаю, что каким-то странным образом эта же кликуха прилепилась к тебе. Ты чего плачешь-то?
— Я думала, что Соль — это все же нота. — Я плакала уже в голос, давясь слезами. — Что моя мать была пианисткой и это у нее было такое прозвище. И что работники детского дома, зная об этом, дали мне такую фамилию. Ведь мы же с Н. с самого начала знали, что фамилия Соленая не имеет к моей семье никакого отношения. Странно, что он сам раньше не узнал об этой Соленой.
— В детском доме все поувольнялись, практически весь коллектив сменился. Мне просто повезло, что я нашел эту воспитательницу. Она рядом с этим детским домом на базарчике торгует овощами.
— А как она меня опекала, эта Елена Николаевна?
— Покупала тебе одежду, сладости, водила в кукольный театр. Как еще может опекать взрослая женщина маленькую девочку-сироту?
— А тот сад, рояль? Откуда все это? Может, это ее дом?
— Нет, я спрашивал. Елена Николаевна жила скромно, говорю же — не воровала. Откуда у нее дом и рояль? Она и на пианино-то не умела играть. Хотя она возила тебя к себе на дачу или в загородный дом, я не понял. Но можно себе представить, какая дача может быть у директора детского дома. Какая-нибудь хибара, курятник с шестью сотками и картофельным полем.
Моя радость от возвращения в дом в Лисьем Носу и встречи с Еремой была омрачена этой историей с женщиной, при жизни носившей такое же странное прозвище, как и я, — Соль. И никакие пирожные, которые с любовью и заботой выбрал для меня Ерема, не подсластили этот день.
Мало того, я нашла гильзы и узнала, как тяжело пришлось Ереме, когда он отправил меня в Москву. Здесь, в доме, были развернуты настоящие военные действия со стрельбой и убитыми, а потом и похороненными в лесу. И никто не знает, сколько месяцев Ерема глушил вечером кофе, чтобы ночью бодрствовать в ожидании вооруженных гостей — варваров, упырей, алчного воронья. Плюс еще эта история Елены Николаевны Соленой, которую я, как мне казалось, хорошо помнила. Да, была женщина, высокая, черноволосая, очень строгая, которую я, скорее всего, и воспринимала исключительно как директора детского дома. Да, мы с ней куда-то ездили на электричке или на поезде, было какое-то поле, и была картошка, и были цветы на круглом столе рядом с кроватью, где я спала. Картофельное пюре, котлеты, но не сырники с изюмом.
Все эти воспоминания были несколько размыты и подпорчены другими, связанными с большой комнатой с одинаковыми кроватями — спальней детского дома. Помню, были драки, какие-то девчонки даже кусали меня, обзывали, лупили, называли подхалимкой или что-то в этом роде. Помню горячие щи в большой столовой, каши, компот из сухофруктов, сливовую твердую карамель, походы в цирк, помню дождь за окном, помню шоколадные конфеты, которые находила в кармане своей курт-ки, запах нового клетчатого пальто… Все эти воспоминания были серыми, бледными и болезненными, словно память берегла меня от них, подсовывая мне сладкую и большую конфету счастья — воспоминания о другой женщине, другом доме, другой еде, другой солнечной картинке, которая нравилась мне куда больше и которая вселяла в меня надежду.
— Не плачь! — Ерема обнял меня и погладил по голове, словно я превратилась в ту маленькую девочку, подкидыша, никому не нужное существо, вызывающее жалость у директрисы детского дома. А ведь он был всего-то лет на пятнадцать старше меня. — Жизнь куда круче любой мелодрамы. Сейчас ты независимая богатая женщина, у тебя впереди вся жизнь. Будет у тебя счастье, поверь мне. Влюбишься, выйдешь замуж, пойдут дети. Тебе не надо зацикливаться на своем прошлом, на этом детском доме, этой директрисе, какой-то женщине, которая кормила тебя сырниками и поила пианистов шампанским. Правда, приди уже в себя, оставь эту идею! Да и пианист этот тебе не нужен. Он живет в своем мире.
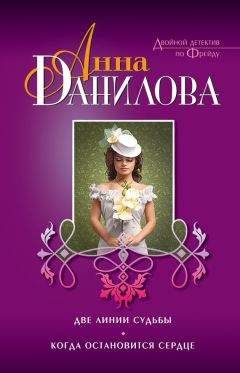
![Тамара Малышева - Будь моим одиночесвтом [СИ]](/uploads/posts/books/5239/5239.jpg)