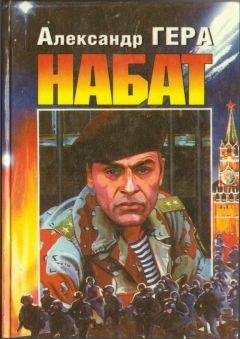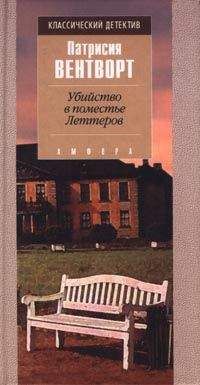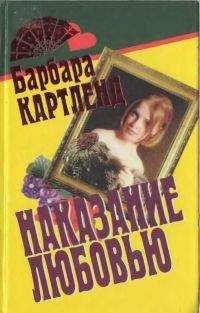Николай Псурцев - Голодные прираки
Я так себе скажу, вот так скажу, пока качаюсь на влажном железном шершавом металлическом пруте, с помощью которого крепится лестница к кирпичной стене, я так себе скажу: «Я не стану, мать вашу, умирать до тех пор, пока не уверюсь в том, что меня будут помнить всегда, всегда. А для того, чтобы меня помнили всегда, я должен в этом мире что-то сделать. И я сделаю. Я не знаю, что, но я СДЕЛАЮ!
Я поймал ногами лестничную перекладину, подтянулся на пруте сначала одной рукой, а потом другой – и ухватился за лестницу.
Рома уже спускался. Я видел его черные плечи, черную макушку и белые руки.
Небо из черного превратилось в синее. Значит, город все-таки упорно продолжает вращаться в сторону солнца, с всегдашней печалью отметил я. Ничего не изменилось. И над вечностью по-прежнему еще одна вечность, а над той вечностью еще одна, а над той еще одна, и под ними не меньше вечностей, чем над ними, и сбоку вечность, и сзади, и спереди – везде, везде, везде. Везде, куда ни сунься, вечности да вечности. Удивительно. Но скучно.
Очень хочу, мать мою, проскочить между вечностями, как пленник меж охранников, и очутиться там, где никто никогда до меня еще не бывал. Я хочу пребывать в постоянном восторге и восхищении, в действии и в полете. Я устал смотреть на всех и на все с высоты своих метра восьмидесяти восьми. Я хочу взглянуть на жизнь, сидя верхом на Солнце. Или вообще никак.
Рома спрыгнул на землю. И после того, как подошвы его высоких военных ботинок коснулись асфальта, я услышал, как кто-то сказал: «Руки за голову, мать твою, сука. И ложись на землю; блядина, на землю или я снесу тебе башку, твою мать!…» А затем я услышал слова, обращение ко мне: «А ты, гнида, спускайся быстрее, пока я тебе жопу не отстрелил. И держи руки так, чтобы я их видел, мать твою!» Словами из любимой песни показались мне высказанные стоящими внизу людьми пожелания в наш с Ромой адрес. Как давно я не слышал таких сладких, завораживающих, как непристойности, вылетающие из уст партнеров во время горячего совокупления, слов. Так могли разговаривать только ребята из милицейского отряда специального назначения – «вязалы». Хорошие, симпатичные, кое-чему обученные ребята. Но беда тех ребят в том, что они не прошли войну. На войне все по-другому. На войне ты всегда готов к смерти – трус ты или храбрец – ты всегда готов к смерти. И в том огромное преимущество тех, кто воевал. В отличие от меня ребята, стоящие внизу, не готовы к смерти. Я Знаю, Я чувствую. И поэтому дальше произойдет следующее. С пятиметровой высоты, напрочь забыв о том, что я смертен, я прыгну на одного из ребят – такого прыжка от меня, конечно, не ожидающего. А Рома тем временем сделает крутое сальто и сметет своим превратившимся в снаряд телом второго «вязалу».
Все кончилось. Два симпатичных, ничего дурного не сделавших нам по жизни паренька лежали в отключке на непросохшем асфальте. «Вот видишь, – сказал Рома, вынимая рожки из автоматов оперативников. – Один бы ты не справился» – «Да, наверное», – отозвался я, вынимая обоймы из пистолетов оперативников. «Не наверное, а точно», – поправил меня Рома и швырнул рожки подальше от оперативников. «Как скажешь», – не возражал я, в противоположную сторону кидая обоймы из пистолетов. «Я очень рад, что не остался дома, – сказал Рома, закуривая сигарету и глубоко вдыхая в себя дым. – Я снова молодой. И мне снова хочется жить». Я пожал плечами и внимательно оглядел все вокруг, не забыли ли мы чего, не забыл ли нас кто… «Машина со стороны улицы, – сказал я. – У соседнего дома. Пошли».
Через низкую арку мы проскочили в соседний двор, оттуда вышли на улицу и, прижимаясь к стенам домов, бесшумно дошли до машины. Хорошо, что они не знают о наличии у меня машины – это здорово облегчает нам положение. У нас есть крыша над головой. Мало того – у нас есть маленький теплый домик.
Мы не стали уезжать далеко от дома. Мы остановились переждать до утра во дворе одного из домов на Поварской – среди десятков других таких же машин – незаметные – мы.
Рома спал. А я думал, что делать теперь. Наверное, придется позвонить Нине Запечной. Я уверен, она найдет нам тихое спокойное место, где мы могли бы переждать горячку первых дней, а может быть, и недель розыска убийцы детей. Пусть даже они не поймают его, пусть хоть только на него выйдут, уже тогда к нам не будет никаких претензий, и мы тогда сможем вернуться к нормальной жизни. Когда я додумал о «нормальной» жизни, мне вдруг сделалось совсем скверно. Дело в том, что я не хотел, как и Рома, возвращаться к «нормальной жизни. Это так. Я хотел бы проскочить между вечностями. Мать вашу…
Я посмотрел на двор и увидел, что он заполнен – весь – толпой угрюмых, сухощавых, марширующих на месте людей. Они маршировали и все как один смотрели на мою машину, на меня и на спящего Рому. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, ррраз. Чуть позже я заметил, что они приближаются к машине. Я пригляделся внимательней, но не увидел, чтобы они сделали хоть полшага, хоть четверть шага вперед. Но тем не менее они приближались, и довольно быстро. Вот в метре они уже от машины, вот в полуметре, вот прижались бледными лицами к стеклу, открывают рты, беззвучно говорят что-то злобное, ненавистное, решительное, угрожающее. У отвел от них глаза, покрутил головой, морщась, а затем опустил голову и опускал все ниже и ниже. И наконец голова моя коснулась руля. Резкий сигнал клаксона заставил меня отпрянуть от руля. Я огляделся настороженно. Двор был пуст.
Я протер лицо, глаза. Мои недавние мысли сейчас показались мне пакостными и отвратительными. Я желал, и с большой страстностью, между прочим, чтобы контора выявила и задержала моего товарища по оружию, офицера из спецроты разведки, того самого, с которым четыре года я делил хлеб, воду, жизнь и смерть. В какую паршивую ситуацию мы попали с тобой, Рома… Следовало бы, наверное, поговорить с каждым из них. Предупредить каждого из них. Если кто-то из них на самом деле убийца (а я не исключаю ошибки в свидетельских показаниях, так же как и не исключаю различного рода совпадений), он сумеет подготовиться – организует алиби, уничтожит орудия убийства… Мать мою! Нет, опять все не так! Я вот, я тот самый, я, Антон Павлович Нехов, не имею права ни перед людьми, ни перед Богом покрывать убийцу детей. ДЕТЕЙ! И я не имею права никому звонить и никого предупреждать; Убийца должен быть задержан и осужден. Более того, он должен быть уничтожен…
Но ведь убийца – мой, вашу мать, боевой товарищ!… «Я хочу есть», – сказал Рома. Я не заметил, как он проснулся. И Рома тоже не заметил, как он проснулся. Потому что он еще даже не пошевелился, как сидел, так и сидит, чуть запрокинув голову. «Я хочу есть», – слабеющим голосом протянул Рома и опять уснул. Крепкий Рома. Тренированный Рома. Я завидую твоему спокойствию, Рома. Я снова невольно посмотрел во двор и снова увидел тех же угрюмых. Только теперь они не маршировали, а, спустив штаны, сидели на корточках и крупно испражнялись. Я тихонько рассмеялся. Зрелище пренеприятнейшее и одновременно забавное. Сидящие угрюмые не пребывали в задумчивости, что обычно свойственно людям, находящимся в подобном положении, они упрямо продолжали со все возрастающим вниманием и интересом разглядывать мою машин и находящихся в ней меня и крепкого Рому. Куда бы я ни повернулся, я тотчас натыкался на немигающий взгляд испражняющегося – обильно – угрюмого. Ради любопытства я посмотрел на потолок автомобиля – не глядит ли на меня и оттуда какой угрюмый. На потолке прямо надо мной висело скользкое зеленое дерьмо. Пока я рассматривал его с недоумением, приличный кусок дерьма оторвался от общей массы и упал мне на нос. Я хотел закричать, но не смог – меня душил запах. Более мерзкого и отталкивающего запаха я еще в своей жизни не слышал. «Ну хорошо, – стараясь не дышать носом, с угрозой проговорил я. – Сейчас, – пообещал я. – Сейчас». Я вынул из кармана Роминого плаща пистолет системы «Беретта», привычно передернул затвор, резко открыл дверцу и с решительным видом выбрался наружу…
Двор был пуст. И тих. Зыбкие лучи утреннего, свежего еще солнца освещали все его уголки. Я видел, что угрюмые исчезли. Они не спрятались. Им негде было так быстро спрятаться. Они исчезли.
Я залез обратно в кабину машины.
И чуть не задохнулся. Вонь в кабине стояла невыносимая. Я огляделся. Двор был по-прежнему пуст.
И тут я услышал, как Рома пукнул. И еще потом, И еще. Рома пукал так громко и значительно, и истерично даже, что я испугался за его штаны и за сиденье моего автомобиля под ним. Не разнесет ли их в клочья столь мощный, столь ураганный напор воздуха?
Я открыл окно и высунул голову наружу. Дышал.
«Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля…»
Я подумал, что сейчас, в данную конкретную минуту, я гораздо счастливее, даже настырно осаждаемый зловонными парами Роминых пуков, чем был еще прошлым утром – до того, как подъехал к своему дому и увидел оперативников возле подъезда. Сейчас у меня было все, что необходимо для настоящей жизни: любовь, опасность, друг (омерзительно пукающий во сне – но друг). И я не ощущал сейчас необходимости думать о будущем. То есть нынешняя минута – минута настоящего – так меня устраивала и удовлетворяла, что мозг мой не искал спасения в завтрашнем дне – мол, завтра будет лучше, завтра что-то изменится и обязательно станет лучше, обязательно. Мне не требовалось сейчас лучшей жизни. Я уже жил такой жизнью.»