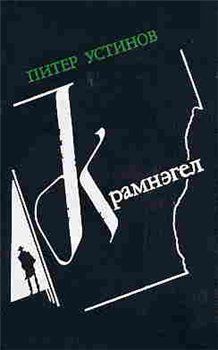Питер Устинов - Крамнэгел
– Барт, окажите мне любезность, выслушайте меня, я ведь пытаюсь вам сказать нечто весьма важное. Я хочу сказать, что времена меняются. Раньше за все карали смертью. Тюрьмы были набиты битком. Это были решения, продиктованные необходимостью. Постепенно, очень медленно, по мере того как росло уважение к человеческой жизни, мы стали ограничивать применение наказания смертью только теми случаями, которые, на наш взгляд, действительно заслужили их: убийства, похищение людей... Но много ли мы прошли – и достаточно ли быстро? Любое ли преступление заслуживает наказания, если состояние, в котором оно было совершено, являлось временным отклонением от нормы и это отклонение излечимо? Ведь убийца способен на убийство лишь в определенные моменты, а в другие времена он может быть прелестным парнем. Возникает вопрос: должны ли мы судить его на основании случайного отклонения или исходя из совокупности всех его действий? А если мы способны вскрыть корни терзающей его проблемы и превратить его в надежного члена общества, смеем ли мы тогда наказывать его за то, что является его болезнью? Вы же не пошлете человека за решетку только за то, что он страдает насморком или, что еще хуже, за то, что он когда-то страдал насморком! – Вот, пожалуйста, сейчас вы как раз и делаете со мной то же самое, что всегда делаете с судьями! – Но вы понимаете, о чем я?
– Нет.
Арни улыбнулся.
– Нет, – повторил он, – не понимаете, потому что и у вас, и у суда существуют свои – весьма жесткие – точки отсчета. Не думаю, что вы вообще смогли бы существовать, действовать, не имей вы устава. Вы не можете мыслить и действовать иначе, нежели исходя из представления, что мир статичен и время неподвижно. Но это отнюдь не так, Барт.
С улицы донесся странный звенящий звук. Арни подошел к окну и, раздвинув портьеры, выглянул на улицу.
– Скажите, пожалуйста, что это, по-вашему, такое? – спросил он.
– Психи, одно слово, – ответил Крамнэгел.
Улицу пересекала группка моложавых на вид, одетых в желтые балахоны буддистов. Наголо бритые мужчины и женщины медленно шли через дорогу, звеня колокольчиками, они напевали, не обращая ровно никакого внимания на нетерпеливые гудки автомобилей. Браггер и Крамнэгел провожали их взглядом, пока они не достигли противоположного тротуара и не расположились на полупустой автостоянке с намерением помолиться.
– Для вас эти люди, насколько я понимаю, всего лишь нарушители правил уличного движения и не больше? – спросил Арни.
– Разумеется. И на этой автостоянке им тоже делать нечего. Она принадлежит «Леверетт корпорейшн».
– Ну да. Ничего другого в данной ситуации вы не видите. И то, что их может посетить божественное озарение, вам глубоко безразлично.
– Да вы что, никак и впрямь принимаете всерьез всю эту чушь собачью? – удивился Крамнэгел. Ему никогда не приходило в голову, что Арни Браггер может руководствоваться мотивами иными, нежели эгоизм и личная неприязнь.
– Я принимаю всерьез все, в чем есть привкус тайны, Барт. Значит, я принимаю всерьез абсолютно все в этой жизни. И даже – при чрезвычайных обстоятельствах – полицейское управление и органы юстиции. Самую же великую тайну представляет собой человек. Человек, Барт! И я отношусь к нему серьезно.
– Но, я надеюсь, вы проводите грань между законопослушными гражданами и правонарушителями?
– Нет, не провожу. Абсолютно никакой.
– Вы что, рехнулись?
– Барт, вы помните дело Бострома? Бросивший школу парень, арестованный за немотивированные убийства год или два назад?
– Еще бы не помнить! Уж не хотите ли вы сказать, что были правы, спасая Холлама Бострома от смертной казни?
– А вы были правы, что не возбудили дела против его отца?
– Его отца? – переспросил Крамнэгел в полном недоумении.
– Да, его отца. Разве вы не помните? Я ведь раскопал всю его подноготную: мать – проститутка из городка Пеория в штате Иллинойс, а отец – полковник американской армии.
– Ну, мало ли что скажет проститутка!
– А если это правда?
– Ну, можно ли винить офицера за то, что он завалился под куст со шлюхой? Да еще в такой дыре, как Пеория! Тогда уж всю армию надо сажать на губу! – Но что, если результатом столь снисходительной терпимости явился маленький монстр вроде Холлама Бострома? Тот полковник, по всей вероятности, добропорядочный, богобоязненный гражданин и отец – как раз того сорта, что вы воспели в своей речи, Барт, – когда он дома и когда его держат в узде жена, проповедник и мундир. Но стоит ему попасть в служебную командировку в Пеорию – и дело обстоит совсем иначе, и вот вам последствия. Разве это справедливо?
– Я и не говорю, что справедливо. Я просто говорю, что лучшей системы, чем существует, все равно еще не придумали... Но и фактора случайности тоже не исключишь... Все мы только люди, в конце концов.
– О, вот вы как теперь заговорили! – встрепенулся Шпиндельман.
– И именно поэтому вы и пришли к нам требовать головы, а то и двух, выражаясь жаргоном французской революции, чтобы укрепить репутацию своего управления, – именно потому, что все мы только люди!
– Вы переворачиваете мои слова наизнанку!
– Переверните их обратно!
– Вы отлично знаете, чего я, черт побери, хочу, Шпиндельман, и вы, Арни, тоже. Я всего лишь прошу передышки для своего управления.
– Иными словами, вы хотите получить один-два судебных приговора, не сталкиваясь с обычной оппозицией с нашей стороны, – уточнил Шпиндельман – Можно сказать и так, если хотите...
– Но разве есть дела, которые больше заслуживают такого отношения, чем другие?
Наступило молчание.
– Ехали бы вы оба в какой-нибудь другой город и оставили бы наши заботы нам…
Шпиндельман расхохотался. Арни лишь улыбнулся в ответ на жалобные слова Крамнэгела.
– Послушайте, Барт. – Арни снова как бы рассуждал вслух о тайнах бытия. В словах его зазвучали нотки понимания и сочувствия.
– Есть у вас хотя бы малейшее представление о той черной ночи, которую переживает сейчас род человеческий, и особенно эти наши Соединенные Штаты именно потому, что мы – самые богатые, самые сытые, глубже всех отравленные чувством вины, самые уязвимые? За последние пятьдесят лет, – продолжал он, – наш образ жизни претерпел больше изменений, чем за предшествующие пятьдесят тысяч. Пространство сжалось, а местами и совсем исчезло. Можно по душам беседовать с людьми, находящимися за тысячи миль, и смотреть при этом им в глаза. За нас решаются все сложные задачи, требующие умственного труда. И нам не остается ничего, кроме как наслаждаться. А это ведет к лености души, Барт. Естественно или неестественно, но все это произошло слишком быстро. Современный ребенок уже просто не успевает усвоить, что к чему; ему даже не приходится задумываться над тем, что собою представляла жизнь раньше, до того, как она вошла в русло рационализации, – ему нет в том нужды. Он уже не способен представить себе существование без современной техники и современных приборов. Более того, история его утомляет. Жизнь в обществе учит его смотреть только вперед и видеть впереди лишь Космонавта, Супермена и других ницшеанских героев, в одиночку выигрывающих межпланетные битвы в комиксах. Даже если он окажется вне общества – история все равно не заинтересует его. Не история, а предыстория человечества овладеет тогда его воображением: жизнь в пещерных коммунах, где можно спать с любой подвернувшейся под руку самкой, воровать ради пропитания и напрочь забыть о том, что такое чувство ответственности. И природа отнюдь не остается безучастной ко всей этой сумятице, к этому вторжению в эволюционный процесс, к наглому вызову, брошенному структуре бытия, – нет, она реагирует, реагирует быстро – взрывами, катаклизмами, катастрофами, безумной и бессердечной какофонией, действиями, не поддающимися объяснению: бессмысленными убийствами по пустяковому поводу, размножением, представляемым как часть дьявольских усилий по поддержанию формы, о возможных последствиях которых почти никто не задумывается, бредовыми маниями и страннейшего характера склонностями, как будто наивысшим выражением честности является нагота. И весь этот новейший вселенский грохот озаряется дергающимся стереотипным и монотонным светом распаленного наркотиками воображения. – Арни замолк. Затем добавил медленно: – Мне ненавистно все, происходящее с нами, Барт. Ибо я не понимаю, что с нами происходит. Я ненавижу то, чего не понимаю, если чувствую, что мне следовало бы это понимать. Здесь, видимо, и лежит различие между мною и вами, Барт. Вы думаете, что понимаете. А я знаю, что не понимаю. Поэтому и пытаюсь понять. А вам и пытаться не приходится.
– Боже ты мой, да позволь я себе думать так, как вы, я б не смог произвести больше ни одного ареста, – ответил Крамнэгел.
– Не говоря уже о том, что я просто спятил бы.