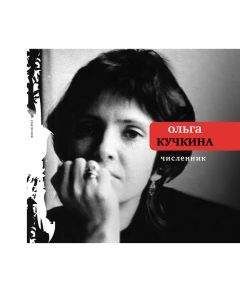Ольга Кучкина - В башне из лобной кости
Рука, в которой он держит рюмку с водкой, едва не расплескивая, почернела и вздулась.
— Толян, что с рукой?
— Кронштейн плохо закрепил, упал, рука сорвалась и попала под колесо.
— Жуть какая-то. Ты же мог раздробить все косточки.
— Мог.
— А может, раздробил.
— Может, раздробил.
— Сходи к врачу.
— Схожу.
Никуда он не пойдет, а Милка, когда он выйдет покурить, шепнет, что со всего маху двинул кулаком об стену, когда услышал, что она с ним расстается.
15
Как это у вас было, с рисованием, это происходило прямо на фронте, с вами был какой-то блокнот, куда вы, хватая карандаш, наспех зарисовывали все эти оторванные руки-ноги-головы, которые послужат основой для будущих, не стану славословить, каких картин, или в вашу память, в ваш состав настолько все врезалось, до дна и навек, что после нужно было лишь сосредоточиться, чтобы начало кровить, и тогда только холст подставляй под краску-кровянку?
Так или примерно так, быть может, слишком прямолинейно, спрашивала я его, но не с ходу, не с улицы, не с мороза, отчего, я думаю, он, при его характере, мог запросто указать на дверь, а когда уже оба были разогреты предыдущим, как суп на конфорке, и уже закипали, и, пузырясь, теряли представление о нормальном градусе, при каком подобное неуместно и даже неприлично. Прилично и уместно, потому что за всем нашим трепом стояла душевная работа на одной волне, ей-богу, она отменяла повседневность, приводя к пикам общения. По его воле, разумеется. Его волей я впадала в транс, отчего все, оставшееся за рамками транса, виделось блеклым и жухлым. Он — черный, желтый, голубой, меняясь в окрасе, в химии, в физике, что я пропускала, вовлеченная в кислородный, или флогистонный, обмен на том уровне, где внешнее не катит, как говорят нынче, а катит внутреннее, обусловленное вышним, — он вдруг заливался редким для него, искажавшим лицо смехом, закатывая глаза, закашлявшись и неожиданно затихая на полувдохе-полувыдохе, как бы прекращая все жизненные процессы для точечной смерти. Сознательной или бессознательной, припадок то был или владение некими техниками, я не знала. Я обмирала. Он быстро открывал глаза, казалось, для того, чтобы успеть подсмотреть мою реакцию, и говорил спокойно, чуть ли не презрительно, но все же, скорее, терпеливо, как старший, повидавший виды, не знавшей их младшей.
Вы маленькая идиотка, говорил он, какие блокноты, какие карандаши среди встопорщившегося огня, взбаламученной земли, разверзшегося купола небес, непролазной грязи, непроходимых лесов, ледяных рек, а страшнее всего, открытой на километры местности, когда ни куста, ни деревца, и танки прут прямо на тебя, и ты, обмочившийся-обделавшийся, драпаешь так, что жилы сейчас лопнут, мошонка вывалится и отвалится нахрен, а про оторванные руки-ноги-головы как раз вашим интеллигентским ротиком-куриной попочкой только и произносить, скажите спасибо, сударыня, что офицерская честь не разрешает материться перед женщинами. Война началась летом, и лето, осень, зиму и другую зиму я, слышите, вы, дурочка, провел в пехотной роте, в геройских усилиях выжить, выполняя распоряжения начсостава, не сдохнув от унизительного животного страха, потому что сам, сам, добровольно убежал на фронт навстречу всему этому добру, едва окончив восьмилетку. В то воскресенье, когда по радио передавали речь Молотова, прошел сильный дождь, теплый, веселый, с пузырями, как большинство тогдашних летних дождей, он скоро сменился ясным солнышком, одуряюще запахло черемухой, банально, но быть банальным часто значит быть правдивым, запомните, и я сразу помчался в райвоенкомат, там распоряжался хмурый майор, к нему стояла очередь из разновозрастных мужчин, и среди них несколько молодых женщин, я нервничал, и чтобы не показать, приставал к одной из них как взрослый, хотя в школе так и не заговорил с девочкой из девятого класса, которая мне нравилась, майор за столом поглядывал с неодобрением и вдруг выдернул из очереди вопросом, сколько мне лет, я, не запнувшись, отрапортовал: восемнадцать, а он велел показать паспорт, а я говорю, что спешил и забыл дома, уже поняв, что свалял дурака и ни на какой фронт по правилам меня не возьмут, так что надо добираться без правил. Молодую женщину, с которой я ни к селу, ни к городу затеял флирт, на секунду очередью прижало ко мне, она провела ладонью по моему подбородку и шепнула именно это: пробирайся сам, война будет долгая, может, где сведет. Меня поразили ее слова. Кругом все говорили, что война будет малая, короткая, мы победим и поставим врага на колени в считаные сроки. Говорить другое было элементарно опасно. А она не побоялась. Почему-то я думал о ней всю войну и почему-то думал, что погибла. Может, и погибла. Дома перебрал вещмешок и выкинул как раз блокноты, и двинул к линии фронта, о которой узнал в той же стоячке в райвоенкомате.
Копия не передает оригинала.
В оригинале пустые глазницы городских зданий, с уцелевшей какой-нибудь одной стеной, с нелепо обрушенными каркасами других, дыбом вставшие куски рельсов, вывороченное железо мостов, обгорелые останки деревенского жилья, погибшие деревья, побитые огороды, речки со съехавшими в воду, точно съехавшими с ума, берегами, широченные грязные колеи от военных машин, исчертивших луга и пастбища, уродливые надолбы, попытка защиты, которая мало что защищала. А также разодранные кишки, снесенные черепа, ополовиненные тела, свои и вражеские.
Я слушала и воображала — он видел и помнил. Я не подрядилась воспроизводить его риторику, его дыхание, то бурное, то пропадавшее, его ритмы — у меня они другие. Я следовала за его — потому что они были сильнее моих. Я пропадала в чужой жизни.
16
Литерная газета меняла главных редакторов как перчатки. Два первых медальными профилями красовались в верхнем левом углу еженедельного выпуска. Придумал профили третий, в глубине души рассчитывая на свой в грезившемся славном будущем, когда его не будет. Не вышло. Даже и последнему лизоблюду на ум не пришло, едва откинул копыта. Лизоблюды лижут живность, на что им мертвечина. Далее главные зачастили с такой скоростью, что народ путался и путал, что при ком было. Уходили или их уходили по идейным соображениям. Перестройка и гласность, демократия и либерализм дергались и дергали марионеток, которые напрочь отказывались в новых условиях признавать себя таковыми. Кто-то слишком свободолюбив, кто-то чересчур догматичен. Меняя кресло, тянули за собой соратников из высшего и среднего звена. Болото оставалось на местах. Идейные соображения сменились финансовыми. Тот не обеспечивал рейтинга, этот тоже, следующий кадр имел репутационные издержки, да скамейка запасных вдруг кончилась, оставили временно нынешнего, с бесстрашным национальным окрасом, оказалось созвучно моде дня, временщик укрепился. Опять одних сотрудников убывало, других прибывало, мужчина, которого все звали женским именем Люся, и даже Люсичка, цвел при всех режимах. Идея назвать газету Литерной пришла второму редактору, потому что первого убили так давно, что к новой газете с новым именем он не имел никакого отношения. Профиль печатали, чтобы утвердить традицию. Традиция — это всегда выгодно. Поэтому стали писать: 200 лет микояновским колбасам или 150 лет заводу Большевичка. Литерными бывают особые билеты, особые вагоны и особые ложи. Литерная газета в совокупности это и означала. Мы любим игру слов и обязаны признать, что тут сложилась игра более чем удачная.
Люсичка работал в Литерной полжизни, не покидая ни на день, а, напротив, с каждым очередным шефом повышая свой статус. Я приходила к главному, которым одно время был мой друг Слава Ощин. Люсичка, бывший курьер, затем корреспондент, затем завотделом, затем ответсек, а нынче зам главного, сидел у него в приемной, насупротив секретарши Али, за которой безэмоционально ухаживал, он ухаживал за всеми секретаршами, при виде меня вставал, мастерски закатывал под лоб невыразительные глазки-орешки, что обозначало обожание, и целовал мне пальцы, то была его фишка. При изготовлении Люсички природа не мешкала, воспользовавшись тем, что валялось под рукой, одно с перебором, другое в малых дозах. В результате нос получился кнопочкой, лобная часть сильно сужалась кверху, мешочки под глазами топорщились бугорками, словно там лежал горох, щеки стекали вниз, скошенный подбородок без затей переходил в полную, с излишествами, как у шарпея, шейную трубу, и туловище стекало округло и складчато, подчеркнутое постоянно не подходящими по размеру водолазками. Мой муж говорил о животах типа Люсичкина: семь сабельных ударов. Неказист был Люсичка, носивший двойную фамилию Облов-Облянский. Если главный оказывался в эту минуту занят, Люся вел меня этажом ниже, к себе, и поил кофе с шоколадной конфеткой. Кофе приносила невзрачная подчиненная. Тотчас заглядывали другие подчиненные. Здесь любили попить жидкий обловский кофе. Один усаживался в кресло, решительно выбрасывая ноги перед собой и замедленно опуская их на маленький столик поверх многочисленных бумаг. Второй укладывался в углу дивана. Люсичка ложился на собственный стол. Общество принималось дымить. Походило на какие-то восточные сладости. Вернее, на картинку от них. Я любила эту дурацкую демократическую атмосферу редакции, где, казалось, занят один главный редактор, а прочие бездельничают, и непонятно, как у них выходит их Литерная, зато можно всласть наговориться хоть о высоком, хоть о низком, но ненавидела дым, который был неотъемлемой частью атмосферы. Так все в жизни. Или отказывайся от того, что любишь, или принимай то, что ненавидишь. Жуткая вещь, если поразмыслить хорошенько. Я спасалась тем, что никогда не знала, кто с кем, кто в чем, кто кого бросил и кто за кого вышел замуж. Не столько не знала, сколько не вызнавала, не интересовалась. Сужая поле обмена сведениями, сужала поле отношений, должно быть, из экономии чувств: чтобы ни любви, ни ненависти уж совсем зазря. Кое-что доносилось. В том числе, что Облянский не женат, в редакции обнимает мужчин, как женщин, а за пределами редакции пьет как лошадь. Существовала и обратная версия. Что жена от него ушла, и он исправно тискает женщин, как мужчин. Ничего из этого меня не касалось, я не реагировала. Не исключено, что было два человека: под одной фамилией он делал одно, под второй — другое.