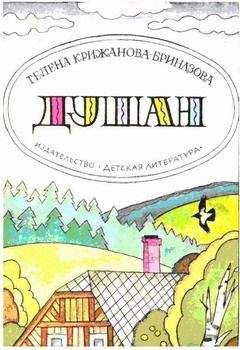Душан Митана - Конец игры
— Вчера мне приснился дичайший сон, — неожиданно подал голос маэстро Антошка. — Красный свет, да-да, я все время видел красный свет, словно у меня началась мания преследования… камеры… они меня преследовали, точно какие-то налитые кровью глаза… мне чудилось, что я попал в засаду камер и микрофонов… все время меня подстерегали красные огни, чрезвычайно идиотское ощущение… жертва камер и микрофонов, черт знает, то ли это просто жара несусветная, то ли взвинченные нервы… Неужто мания преследования? Чрезвычайно идиотское ощущение… — закончил он свою тираду, и снова раздалось его спокойное, ровное дыхание.
Славик и Шалага, несколько оживившись, переглянулись; неожиданный едва внятный монолог маэстро Антошки чуть разрядил мрачную атмосферу.
В конце концов, сегодня все шло вполне прилично, подумал Славик. Он вспомнил, как звуковик выдергивал из сценария одну страницу за другой и отбрасывал их — безошибочный признак того, что работа у них идет как по маслу. Монтажер Петрушка, самый острый на язык среди членов группы, по-своему выражал ему благодарность за то, что сегодня утром он вытащил его «из этой лажи»: он почти не раскрывал рта, чтобы защититься от непрерывных и явно несправедливых попреков режиссера Славика, директор картины большую часть времени просидела по своему обыкновению за чашкой кофе и вязанием свитера, девица Лапшанская изливалась в комплиментах маэстро Антошке, который буквально каждую минуту — если не надо было торчать перед «кровавыми глазами камер», возбуждающих у него манию преследования, — использовал для короткой дремы и с добродушной улыбкой объяснял свою слабость язвительному помощнику режиссера («мы здесь не в ясельках, маэстро Антошка») так: «Сон, дорогой пан Шпирко, сон — самая главная вещь на свете, попомните мои слова, когда «скорая» будет отвозить вас с безнадежным инфарктом миокарда», — короче, все было как обычно, вполне нормально, им удалось выполнить временной график, и ничто, пожалуй, не могло нарушить его. Однако Славика — пусть он внешне и не выказывал этого — уже длительное время тяготила и беспокоила именно эта «нормальность», именно то, что все происходит «как обычно». Он сознавал, что постепенно, но определенно превращается в обыкновенного, опытного, удачливого ремесленника, и в душе опасался, что в недалеком будущем и он станет походить на членов своей группы: привыкнет, как и они, к прилично оплачиваемому удобному положению и утратит все свои творческие помыслы.
Да, начинает попахивать чудовищной стерильностью, пришло время на что-то решиться, чтобы вырваться из этого заколдованного круга.
Он снимал исключительно инсценировки литературных произведений, а пришел он к этому, как слепая курица к зерну. Вот ведь незадача: с режиссером Светским случился инфаркт как раз при съемке инсценировки. Таким образом, первая вещь, которую Славик сделал, случайно оказалась инсценировкой, она удалась ему (возможно, тоже по чистой случайности), и потому теперь он «воскрешает» мертвые буквы и исподволь, но бесспорно теряет связь с живой, конкретной реальностью, хотя именно эта возможность, возможность запечатлеть жизнь in flagranti,[10] непосредственно, улучив минуту, схватить самую что ни на есть трепещущую современность и людей, живущих здесь и сейчас, прежде всего и привлекала его в кино. Он сравнивал себя с актером, которому удалось успешно выступить в определенной роли, а потом — хоть тресни — тщетно он станет уверять, что способен сыграть ту или иную роль, что по характеру он другой, что, собственно, произошла ошибка, что представление, которое о нем сложилось, напрочь ложное, — его образ уже окончательно завершен, обрамлен, и любую попытку выйти за пределы этой рамы общественность покарает потерей симпатии, непониманием и отчужденностью. С какой стати он вздумал нас тревожить, нам же этот образ так нравится! Что делать? Приспособиться, отречься от самого себя и спокойно почивать на лаврах или остаться самим собой, выйти из привычных рамок и поставить все на карту? А ну как потерпит фиаско, а ну как выяснится, что правы были они, а не он? Имеет ли он право на такой риск? Право? Да я просто должен это сделать! Неужто я избавился от «круга» на фабрике лишь затем, чтобы вертеться в новом кругу? Только бы не кончить мне, как тот блондинчик, усмехнулся Славик не без сарказма.
После окончания школы Славик не попал на режиссерский факультет пражской Академии и потому стал работать в Горном Лесковце, на небольшой обувной фабрике. Он обрезал подметки, блондинчик прибивал их. А конвейер двигался убивающе монотонно, непрерывно по кругу; спокон веку так все и называли его — «круг».
Будь проклято конвейерное производство, рождение современной цивилизации, закат культуры! С такими страстными, наивными возгласами он просыпался каждое утро, когда мучительный звон будильника напоминал ему об обязанностях.
Это были минуты, когда он наиболее полно ощущал всю сладость сна, но знал, что продолжить его невозможно. Тут же следом раздавался пронзительный крик матери: Вставай, опять поесть не успеешь!
Хорошо, хорошо, лепетал он.
Солнце еще не выкатилось из-за холмов, которые вырисовывались в пепельно-сером рассветном мареве сквозь ветви старого ореха, раскинувшегося у самого дома. На ковре, словно на бумаге в проявителе, обозначились очертания балконной двери и окон с обеих сторон, их контуры становились все четче. Заскрипели деревянные ступени: это мать поднимается наверх, тяжело, медленно, осторожно держась за перила. Она входит в мансарду, срывает с него одеяло. Его обдает внезапным холодом, и он раздраженно перевертывается на другой бок, глотая ругательства. И так каждое утро.
Хоть раз мог бы и сам встать, опять поесть не успеешь, сказала она.
Встаю.
Опять опоздаешь.
Скорей выгонят.
Следует обычная реакция матери — она молча поворачивается и злобно хлопает дверью; дребезжат стекла — звук лишь постепенно утихает. Он спускает ноги с кровати и по памяти тянется к ночному столику. Чирканье спичкой и первая затяжка дыма на голодный желудок. Кашель.
Опять куришь, злобный окрик матери снизу, из кухни. Лестница. Коридор. Из-за двери спальни, забранной матовым стеклом, доносится громкий храп. Отец еще спит. Пошел второй год, как он снова стал преподавать в школе. Предыдущие годы, с тех пор как вышел из тюрьмы, отец тоже работал на фабрике. Сейчас он может поспать на час дольше, к шести вставать ему не надо.
В кухне ударил в нос запах кофе. Он сморщился.
Доброе утро, сказал, будто сегодня они еще не виделись, и мать ответила: Доброе… Пододвинула ему чашку. Вот немного кофе, и пей побыстрее, скоро шесть.
Ты же знаешь, у меня все точно рассчитано, в шесть я в проходной.
Упаси бог прийти тебе хоть когда-нибудь на минуту раньше! Пойду возьму сала. А ты выпей кофе.
Ты же знаешь, утром не могу ничего горячего. Я попил воды.
Надо. Именно утром надо горячее. Язву желудка заработаешь. Сколько раз надо тебя просить, чтобы ты не курил натощак. Выпей кофе.
Нам что, прямо с утра перебраниваться? Ты отлично знаешь, что я не стану пить.
Мать хлопнула дверью. Он ухмыльнулся и включил радио. Раздались сигналы точного времени: без десяти минут шесть.
Он второпях взял со стола хлеб, завернутый в газету. В дверях столкнулся с матерью — она несла банку сала.
Уже нет времени, поспешил он сказать.
Подожди. Хоть по дороге съешь кусок хлеба.
Быстро, уже без десяти.
Быстро, быстро. Все только быстро. Не можешь пораньше встать? Она протянула ему намазанный хлеб.
Ну ладно, сказал успокаивающе и погладил мать по волосам.
При этом поразительном жесте нежности, казалось, на мгновенье все замерло, в воздухе застыла тишина, часы перестали тикать (или это была лишь доля секунды между отсчетом времени?). Мать растерянно улыбнулась. Ступай, хитрюга, она слегка похлопала его по щеке, опять не выпил кофе. Привет, сказал он уже за порогом.
Возле главного входа была затянутая сеткой дверь в проходную. Он по памяти нашел табличку со своим именем. Сунул ее в узкий зазор контрольных часов; измерив время, они выбили его мелкими циферками возле даты: приход 6.00. Низкорослый мужчина с чисто выбритым лошадиным лицом, в синей форме и фуражке, сдвинутой на затылок, раз-другой подбросил кобуру с револьвером и сказал: Опять последний. Круг уже пущен.
Черт его не возьмет, он кивнул, пробежал по зацементированному двору и вошел в здание. По пути в раздевалку стянул свитер и вытащил из брючного кармана ключ на колечке. Отомкнул шкаф, надел засаленный голубой халат.
Коротким коридором прошел в цех.
В уши ударил шум машин, смесь звуков различных оттенков, но их дисгармония создавала новую гармонию — созвучное монотонное гудение, в котором терялся всякий оттенок, всякая примета индивидуальности. Он шел по цеху, и с каждым шагом смягчалась напористость звука, его лицо, неприязненно сморщившееся вначале, постепенно обретало выражение равнодушия — свидетельство его акклиматизации, примирения, свидетельство метаморфозы — гул обернулся тишиной.