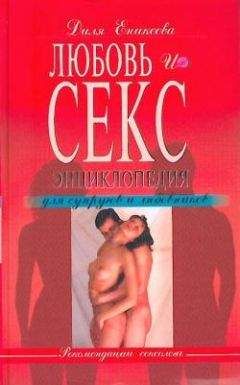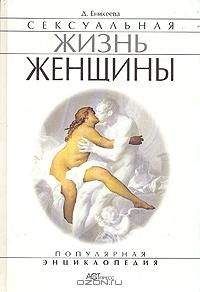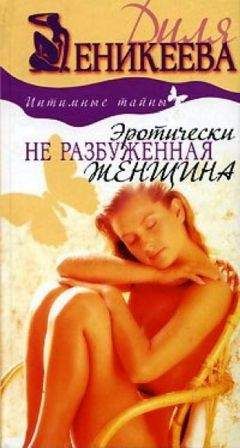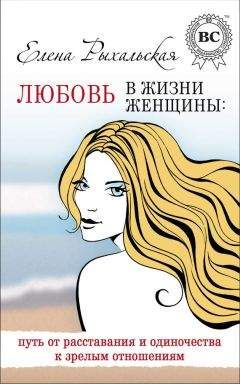Дмитрий Вересов - Мой бедный Йорик
Действительно, как отец-художник мог понапридумать и воплотить в жизнь столько безвкусицы? Видимо, на любимом доме отдыхал его художественный дар. Вот и с монограммой он учудил. Какой-то местный резчик по дереву из старых мастеров успел выточить в промежутках между запоями деревянную решетку для балкончика. По эскизу хозяина ее украсила монограмма семьи в виде горизонтальной восьмерки, то есть математического знака бесконечности. Каждый из Лонгиных собирался жить долго, о чем намекали латынь и английский — «long». Обычно это у них получалось, несмотря на лихолетья и катаклизмы. Семье же и вовсе светила бесконечность. Поэтому восьмерка была выбрана фамильной монограммой и мастерски вырезана из дерева в центре причудливых гирлянд и орнаментных завитушек.
Шли годы. Мертвое дерево портилось под дождем и снегом. В прошлом году, как раз на свадьбе Иеронима и Анны, самый наблюдательный из гостей Никита Фасонов заметил, что от прогнившего знака бесконечности отвалился кусочек дуги. Теперь монограмма семьи Лонгиных представляла собой головастика с хвостиками или жука с усиками. Тогда все долго смеялись и упражнялись в остроумии, стоя перед домом. Но шутка была неудачной, потому что через месяц отец умер. Умер Василий Лонгин, хозяин дома, глава семьи, лауреат всех премий, как написала про него последняя советская энциклопедия, «один из ярчайших представителей социалистического реализма в живописи».
Василий Иванович встал среди ночи и направился в мастерскую, но почему-то не дошел до нее и стал подниматься по шаткой лестнице на второй этаж. Может, хотел что-то сказать сыну? Страшный грохот разбудил и людей, спавших в доме, и птиц, ночевавших среди архитектурных излишеств особняка. Старик Лонгин лежал на нижних ступеньках, расставив руки и ноги, как человек, вписанный Леонардо да Винчи в «квадрат древних».
Его огромные ступни высунулись между перилами, и домашние долго пытались вытащить застрявшего, несгибаемого великана-старика. Они поворачивали, приподнимали его, покрикивали друг на друга. Так грузчики обычно возятся со старинным трехстворчатым шкафом. А когда, наконец, Василия Ивановича положили на ковер у камина, чтобы немного передохнуть, прежде чем донести его до кровати, Аня, жена Иеронима, вскрикнула. Она поймала последний взгляд старика, цепкий, внимательный взгляд художника, но полный отчаянья и ужаса. Аня и теперь, спустя год, часто говорила Иерониму, что у нее есть странное ощущение, будто отец унес с собой в могилу ее образ, не нарисованный, но оставшийся в памяти портрет…
— Отец, отец, — тихо сказал Иероним, — что бы ты сказал мне сейчас? Понял бы ты меня? Пристыдил бы, сказал, что я веду себя не по-мужски? Что я совершаю большую ошибку?.. Я все решил.
Я сознательно иду на это. Я стану другим. Ради нее… Только ради нее. Ради нее одной я должен исправить свой автопортрет, реальный, живой автопортрет. Я нарисую себе завистливые глаза, слабый, нервный рот… Ведь я же — художник. Что стоит мне нарисовать ничтожество? Так надо…
Иероним сидел перед последней картиной отца. Это был автопортрет художника с женой. По мнению Иеронима, работа была не самостоятельной. Странно, что в конце жизни Василий Лонгин подпал под влияние импрессиониста Дега. Впрочем, автопортрет не был завершен.
Себя отец изобразил полулежащим на диване в гостиной. Его жена, мачеха Иеронима, играет на рояле. Художнику очень удались ее белые, сильные руки, безупречная постановка кисти профессиональной пианистки. Гордая осанка, высокая прическа, черное платье с глубоким декольте. Если присмотреться, а не присмотреться почти невозможно, на ее белой груди заметны темные блики, словно отсвет черных клавиш, или следы чьих-то пальцев. Мастер дерзко, почти по-юношески, играл в своей последней работе с черным и белым цветом.
Вообще, картина смотрелась обычной жанровой сценкой, если бы не взгляды отца и мачехи. Они сходись в одной точке, были направлены на кого-то, стоявшего в правом углу полотна. Причем, во взгляде отца читался неподдельный ужас, а его правая рука простерлась как бы в поисках опоры. Мачеха же смотрела с улыбкой узнавания, словно на своего старого знакомого. К сожалению, работа осталась незаконченной. На кого они смотрят, было совершенно непонятно. Художник успел изобразить в этом месте только темный контур, серую тень.
Взгляд Иеронима опять вернулся к глубокому декольте. Все-таки, несмотря на свой соцреализм, отец был очень неплохим художником. Ведь он поймал женскую грудь на вдохе. Вот мачеха вздохнула, приоткрыла красивый рот, чтобы сказать кому-то в правом углу…
— Бедный Йорик, мой бедный Йорик…
Глава 6
Я очень горд, мстителен, самолюбив.
И в моем распоряжении больше гадостей, чем мыслей, чтобы эти гадости обдумать, фантазии, чтобы облечь их в плоть, и времени, чтобы их исполнить…
Вот он — ее супруг, ее суженый. Немного суженный в плечах, но на то он и художник. Аня всегда художников себе такими и представляла. Бородка, беретик, синяки под глазами, худоба и еще… острые колени. Геометрический прибор для измерения окружающей действительности и перенесения ее на бумагу или холст. Покойный свекор был скорее исключением из правил. Кряжистый, тяжеловесный, былинный богатырь Святогор. Иероним рассказывал про отца, что он вышел из бурлаков, когда-то таскал по Волге баржу с артелью. Первый раз Аня увидела своего будущего свекра на берегу Финского залива. Он шел босиком по песку вдоль линии берега, подвернув серые холщовые штаны, с лямкой этюдника через плечо. Большой, сильный и косматый. Настоящий бурлак, у которого давно порвалась бечева и потерялась груженая баржа, а он этого даже и не заметил.
— Евреечка? — первое слово, которое Аня услышала от Василия Лонгина.
— Нет, — ответил Иероним.
— Жаль.
— Это почему же? — теперь уже она вступила в разговор.
— Да потому. Была бы — красивая евреечка. А так просто красивая, и ничего больше. «И нежностью исполнилась душа, ах, как была еврейка хороша!..»
Сказав это, Лонгин-старший пошел дальше по берегу залива, оставляя за собой в мокром песке маленькие бассейны, которые быстро заполнялись водой.
— Не обращай внимания, — сказал Иероним, обнимая смущенную Аню. — Старик фантазирует. Жить просто он не умеет. Но ведь это был комплимент! Цени…
Иероним был похож на мать. Странно, что Василий Лонгин не оставил ни одного портрета первой жены. Но Аня видела ее фотографию. Со снимка смотрела нервная, болезненная женщина, во взгляде ее было столько раздражения и обиды на весь свет, что фотограф не «додержал». Снимок получился темноватым.
Еще Аня слышала от Иеронима историю знакомства отца и матери. Будто бы молодой художник Вася Лонгин наступил ей на ногу во время первомайской демонстрации. Но и в молодости он был слишком тяжел. От боли девушка выпустила из рук два воздушных шарика и расплакалась. Так они и познакомились, так она и проплакала всю свою семейную жизнь, вечно обижаясь на мужа по реальным и мнимым причинам. Иероним сказал, что те самые воздушные шарики, летящие в голубом небе, отец увековечил на одной из своих картин. Правда, большую часть полотна занимали члены Политбюро, приветствующие с трибуны Мавзолея праздничную демонстрацию трудящихся. Где-то в толпе энтузиастов и оптимистов есть бледное женское личико с обиженным взглядом… Хотя, может, Иероним это придумал?..
— Бедный Йорик, мой бедный Йорик, — проговорила Аня нежно.
— Сколько раз просил не подкрадываться и не шипеть, когда я работаю! — отозвался Иероним.
— Когда ты работаешь, то бегаешь по мастерской туда-сюда и очень громко материшься, — Аня приглашала его улыбкой поучаствовать в легкой супружеской пикировке. — А сейчас ты сидишь и бормочешь себе под нос. Йорик, сварить тебе кофе?
— И не называй меня Йориком. От этого имени пахнет могилой. Неужели ты не чувствуешь? Хотя откуда? Ты Шекспира-то видела только в кино.
— А ты, значит, видел живого Шекспира? — Анна еще попыталась отшутиться.
— Как вы все спокойны, рассудительны, равнодушны, как могильщики в «Гамлете»… «Бедный Йорик»! Не называй меня именем черепа. Слышишь? Пусть отец останется последним человеком, который меня так называл. Поняла? И еще я хотел тебе сказать…
Он еще что-то говорил, поминая к месту и не к месту отца. Но Аня уже была задета первой фразой. Это было безнадежно. Легче всего обидеть человека, сказав ему, что он такой же, как все. Он еще может вынести обвинение в принадлежности к какой-нибудь общественной группе — интеллигентам, жлобам, «голубым». Но признать себя одним из всех — это выше человеческих сил. Наверное, из этой обиды и возникло всемирное движение антиглобалистов…
— Хорошо, я буду называть тебя Тюбиком. Устраивает? А могу банально, как все, — Зайкой, Котиком, Солнцем. Солнце — это очень модно. Солнце мое, тебе сварить кофе?