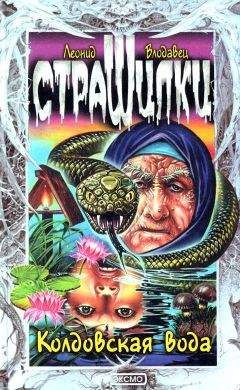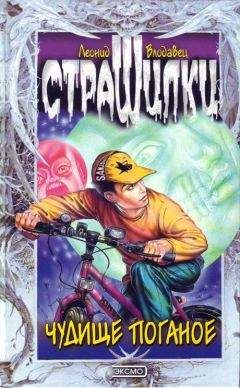Леонид Влодавец - Московский бенефис
По-прежнему сидя в кресле с якобы закрытыми глазами, я торопливо прикидывал, что делать дальше. Решений было несколько, и каждый вариант был по-своему плох. Можно было вскочить с кресла, долбануть по башке экстрасенса хотя бы магическим кристаллом — мало не покажется! — после чего, если мистер Салливэн будет возмущаться, зафинделить и ему. После этого надо срочно изъять перстеньки, привести в боевое положение зонт и идти на прорыв… Однако черный бархат мог скрывать каких-либо не учтенных мной действующих лиц, которые при первом же моем лишнем движении или попытке сделать подобное движение могли испортить мне шкуру куда крепче, чем это сделал кобелина Толяна. Если бы эта дура РНС могла мне показать то, что находится за шторами, я мог бы, возможно, принять верное решение, но эта стерва себя никак не проявляла, и я понял, что на нее сейчас лучше не надеяться.
Был, конечно, и второй вариант. Тихий, мирный, спокойный. Можно пожаловаться на головную боль, сказать, что где-то там сердце чуток поскрипывает, и попросить у мистера Салливэна извинений за беспокойство, а господина Белогорского обрадовать своим уходом. После этого прибыть к отцу родному с докладом о наличии обоих перстней у Белогорского и предоставить ему решать вопрос об их приобретении. Но этот вариант отнюдь не гарантировал того, что господин Белогорский меня выпустит живым или даже мертвым. Кроме того, этот вариант мог сразу навести Вадима Николаевича на мысль, что мне, окромя перстней, тут ничего и не надо было. После этого Вадим Николаевич мог вспомнить о том, что он по совместительству Натанович, уехать в Тель-Авив на день рождения к тете Хае или на Брайтон-Бич к дяде Бене и так далеко увезти перстеньки от родного Подмосковья, что нам с Чудо-юдом придется потратить весь остаток жизни на их розыски, но так ни черта и не найти.
Между тем наступало, судя по всему, самое главное.
Мистер экстрасенс нажал какую-то кнопку, и мое кресло медленно поехало вперед, вплотную приблизившись к инквизиторскому столу. Этот эффект, рассчитанный на провинциальных бабуль в маразматическом возрасте, на меня впечатления, конечно, не произвел.
— Дайте вашу левую руку! — потребовал Белогорский. Я без особых колебаний положил ладонь на стол, и Вадим Николаевич нацепил на указательный палец моей левой перстень с вогнутым минусом.
Пока он все это проделывал, я вспомнил, что именно так приблизительно происходил переход от негритенка Мануэля к донье Мерседес. По идее, при соединении перстней я должен был перескочить в мозг Белогорского и заархивироваться в какой-то ячейке его памяти, если, конечно, принять Ленкину версию о переносе «я» от вогнутой фигуры к выпуклой Интересно, на хрена это нужно мистеру лекарю? Если он, конечно, знает еще какие-то свойства перстней, о которых я не имею представления, то следует быть настороже. Потеря памяти, потеря сознания, летальный исход… Ну его на
хрен! — Положите руку на стол! — произнес Белогорский. Его голос прозвучал совсем не так, как звучал несколько минут назад, когда он разыгрывал из себя гипнотизера. Голос прозвучал почти так, как при разговоре через спутник связи по телефону, звонко, с легким фонящим бренчанием. Но самое ужасное было то, что моя рука, украшенная перстнем, помимо моей воли улеглась на стол и словно бы прилипла к нему. Это было похлеще РНС. Та просто подсказывала решения, иногда усиливала мои возможности, но никогда так грубо не брала управление на себя. Она лишь руководила и направляла, а Белогорский с помощью двух перстеньков попросту УПРАВЛЯЛ мной. Я силился отлепить руку от стола, но черта с два — она не подчинилась, будто ладонь была приклеена к столу каким-то суперклеем или придавлена многотонной тяжестью.
Вот тут я просто-напросто испугался. Это было куда страшнее, чем наведенное дуло «дрели», «АК-74» или иного стреляющего предмета. Ведь, в сущности, мой организм выполнил бы сейчас любую команду, последовавшую от Белогорского. Он мог выключить мой мозг, остановить сердце или заставить его колотиться с бешеной скоростью, сделать меня слепым, глухим или немым, организовать мне острую почечную недостаточность или опорожнить кишечник прямо в штаны. Я сразу вспомнил, как вождиха хайдийского народа путем введения препарата «Зомби-7» превратила в послушных и исполнительных кукол свободомыслящих Мэри и Синди. Но здесь-то не было никаких уколов. Сила была в перстеньках. Они были усилителем воли! Точнее, перстень с выпуклым плюсом усиливал волю Белогорского на выходе и передавал ее на вогнутый перстень, даже не соприкасаясь с ним, а вогнутый перстень принимал ее, эту волю, и диктовал мне.
Я никак не мог повлиять на ход событий, мне оставалось только ждать и надеяться, что все кончится благополучно.
Белогорский продолжал командовать:
— Вытяните правую руку вперед! — рука у меня сама собой поднялась и повисла в воздухе. Я совершенно не прикладывал усилий, чтобы поддерживать ее в горизонтальном положении, и, будь все обычным образом, она упала бы вниз и повисла плетью. Но она висела в воздухе горизонтально, будто была привязана какой-то невидимой нитью, идущей с потолка.
— Соберите пальцы в кулак! — и это приказание мой организм выполнил безукоризненно. Не я, Коротков-Браун-Баринов, а мое тело. Разум был сам по себе. Думать я мог сколько угодно, даже внутренне противиться, но поделать ничего не мог — центральная и периферическая нервные системы исполняли только команды Белогорского.
— Выпрямите указательный палец правой руки!
Теперь моя рука напоминала пистолет. Я даже некстати вспомнил, что когда-то в детдоме, из-за нехватки игрушечных пистолетов, при игре в войну приходилось изображать пистолет указательным пальцем и кричать: «Пых! Пых! Падай, а то играть не буду!»
— Начертите пальцем в воздухе крест!
Будь я в состоянии говорить, то спросил бы, какой крест чертить: восьмиконечный православный, четырехконечный католический, косой андреевский, плюсообразный швейцарский, мальтийский с «ласточкиными хвостами» или георгиевский, похожий на крыльчатку ветряной мельницы. Но я начертил тот, который задумал Белогорский, то есть швейцарский, точь-в-точь такой, как был на «плюсовых» перстнях. Моя рука работала словно графопостроитель, управляемый компьютером.
Но результат этой работы был для меня совершенно неожиданным. Крест, очерченный пальцем в воздухе, то есть по всем законам здравого смысла — вещь несуществующая, вдруг явственно проступил в виде тонкого алого контура, отчетливо различимого на фоне черного бархата. Меня передернуло, словно от удара током.
Сразу после этого я ощутил некий холод, покатившийся от ног к голове. Одновременно у меня началось какое-то знакомое мелькание в мозгу, я почувствовал, что стирается грань между реальностью и галлюцинацией, между существующим во мне и вне меня. На вполне реальную картинку, которую мои глаза выдавали мне в мозг, то есть комнату с черными занавесами, Белогорским, сидящим за своим инквизиторским столом, и Салливэном, наблюдающим за всем этим действом, сидя в углу на стуле, начали наползать сначала блеклые и прозрачные, а потом все более отчетливые, яркие картинки из каких-то углов, моей перемешанной черт-те чем памяти. Каждая из них быстро исчезала, но ее тут же сменяла другая, третья, десятая… Впечатление было знакомое — примерно то же случается, когда на экране телевизора появляется одновременно две картинки с разных каналов. Разница была только в том, что там это смешение образов и действия ограничено рамками телеэкрана и, отвернув от него взгляд, можно увидеть достаточно однозначный обыденный мир. А здесь мешанина происходила у меня внутри, в мозгу, и отводить взгляд было некуда.
Впрочем, сквозь всю эту мельтешню я все же сумел разглядеть момент, когда Белогорский прижал перстень с выпуклым минусом к перстню с вогнутым минусом, который находился на моей левой руке, придавленной к столу неведомой силой.
То, что когда-то, 340 лет назад, ощутил негритенок Мануэль, а потом Мерседес-Консуэладе Кастелло де Оро, произошло вновь, только вот конечный результат получился совсем иной.
Внутри меня сверкнула ярчайшая вспышка, возможно, такая, которая ослепляет людей при ядерном взрыве. Затем несколько секунд на фоне абсолютной черноты с неимоверной скоростью закрутилась исчезающая спираль золотистого цвета, которую Мануэль воспринял как змею, а Мерседес — как молнию. Едва спираль исчезла, как внутренним ухом я услышал что-то похожее на свист — этого в памяти Мануэля и Мерседес не сохранилось, — а затем появилось ощущение свободного падения, очень хорошо мне знакомое. Как-никак, Коротков сделал в армии прыжков тридцать, а Браун, вселенный в мою шкуру, — далеко за сотню. Я летел в бездонную черную пропасть, почему-то спиной вперед, а где-то далеко от меня в противоположном направлении, но тоже в бездну уносился Белогорский. В той же позе, что и прежде, то есть сидя за столом. Он вскоре исчез, обратившись в точку, растворившуюся в черноте космической, хотя и беззвездной бездны. Согласно тому, что я помнил по опыту Мануэля, через какое-то время он должен был вынырнуть оттуда и со страшной скоростью помчаться прямо на меня. Вернее всего и я должен был понестись ему навстречу. И это должно было закончиться чем-то вроде легкого толчка, после которого началось смешение образов и понятий Мануэля с образами и понятиями Мерседес. Затем, по предположениям Ленки и Чудо-юда, память Мануэля перешла в «я» Мерседес, где и заархивировалась, вошла в гены, попала к мулату Джонсону и так далее… Но ничего похожего на сей раз не произошло.