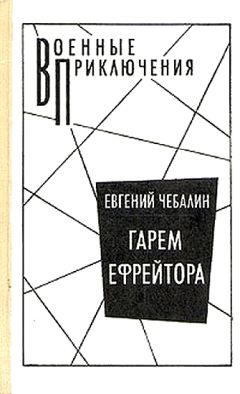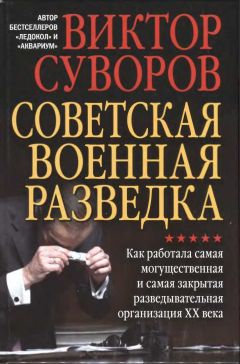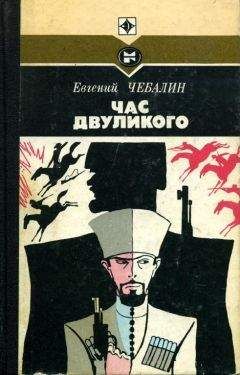Евгений Чебалин - Гарем ефрейтора
– На подступах к городу заняли оборону ополчение, милицейские и войсковые заслоны. Главные нефтепромыслы охраняются силами 141-го полка. Самолеты бомбят Агиштинскую гору и Цейское ущелье.
– Где немцы и Исраилов?
– Основные силы в районе Махкетов. Подразделение Жукова ведет бои на подступах к их логову. К нему подтягиваются отряды Дубова и Криволапова.
– Почему «подтягиваются»? Почему сразу не собрал их в один кулак? – тут же унюхал щель в боевой тактике Серова нарком и вломился в нее со всем напором.
– Разрешите подробности позже, они не телефонные, – зазвенел металлом в голосе Серов.
– Ладно. Подождем. Какова общая численность банд?
– Около двух тысяч. Точную цифру трудно дать, банды мигрируют, многие откалываются с оружием, разбегаются по домам.
– Каким числом обороняешься?
– Тысяча четыреста бойцов вместе с ополчением.
– Задействуй любые возможности, моим именем бери у республики все, что считаешь нужным, – наращивал напор нарком, – приложи все силы! – И вдруг, сорвавшись, закричал истерически, так, что Серов, дрогнув, отдернул трубку от уха: – Смотри, Серов! Сдашь хоть один нефтепромысел или завод – за все сразу спросим! Долго, слишком долго мы с тобой нянчимся! Забыл, как внизу, подо мной, сидел? Учти, один пока сидел, без своих баб!
Голос наркома, сотрясавший мембрану, был отчетливо слышен в кабинете, и Кобулов, вжавшись в кресло, украдкой полез в карман за платком. Выудил белый надушенный комок, стал вытирать влажные, липкие ладони.
Серов, зафиксировавший краем глаза белый мазок, покосился. Наркомовский голос лез из трубки шампуром, протыкал черепную коробку:
– …Докладывай обстановку каждый час. Мне докладывай, не Верховному, слышишь?!
– Здесь Кобулов. Будете с ним говорить? – вклинился в паузу Серов, изнемогая в ярой ненависти к этому крику, к рыхлой и зловещей плоти, исторгавшей его за два тысячи километров.
– На… он мне нужен? Ты за все в ответе, с тебя спросим! К тебе сегодня прибудут Меркулов и Круглов. Гоняй всех троих в хвост и гриву, используй, как считаешь нужным. Стоять насмерть! Я тебя как друга об этом прошу!
Серов скрипнул зубами, передернулся от мерзости последней фразы.
– … Справишься – все простим, все забудем! Оправдай доверие товарища Сталина, Родины! Спасай войну, Серов! – на последнем издыхании выдавил концовку нарком, с хрипом втянул воздух.
В трубке щелкнуло. Москва отключилась.
* * *
События на ферме развивались своим чередом. Каменный фасад низенькой фермы был искрошен пулями. Особенно густо посек свинцовый град камень вокруг окошек, из которых время от времени громыхал оружейный гром, фырчала и визжала дробь, сработанная из чугунной крошки.
На истоптанном, огороженном жердями дворе фермы там и сям горбились за укрытиями восемь человек с карабинами, вяло постреливали в окна-бойницы, озираясь и недоумевая, отчего вляпались в эту тупую, бессмысленную заваруху, зачем подчинились Косому Идрису.
Под стеной лежали трое со шмайсерами, пуляли совсем уж глупо – вверх, вдоль стены: лишь ошметья летели от соломенной крыши.
А вдоль двора колыхались с обеих сторон две шеренги, деды и женщины с камнями, косами, вилами – немое и грозное сельское воинство. Стекалось к ним остальное население аула, вклинивалось в прорехи, сжимая в руках булыжники.
Время от времени озирал эту осаду из-под стены Косой Идрис, щерился: обойдется! Живое мясо против автоматов – куда как страшно!
Ждал своей минуты Абу.
Пришла пора отходить Идрису. Только не мог он так просто уйти отсюда: истаяла, как дым, обещанная Реккертом тысяча! Ныло ободранное дробью плечо, бунтовало самолюбие. Надо было отойти шумно, так, чтобы запомнили, чтобы не скалились вслед со злорадством.
Отползая к углу строения, поманил он за собой напарника, молодого налетчика, недавно взятого в банду. У самого угла велел ему встать лицом к стене и сцепить сзади руки. У парня подрагивали заляпанные навозом колени, но стоял смирно, косясь на окна, на густевшие людские шеренги, окружавшие ферму. Заметив это, хлопнул Идрис новобранца по плечу, спросил:
– Мужчина ты или овечий хвост? – Повесив автомат на шею, полез молодому на плечи. Щуплые, хрупкие, они заходили под ним ходуном. Кинув сквозь зубы: – Держись! – Идрис подпрыгнул, упал животом на крышу.
Подтянулся, сел. Немо, выжидающе упирался в него сотнями глаз аул, и Идрис всей кожей ощутил жгучую плотность людской ненависти. Зябко передернул плечами, снял с шеи шмайсер. Хлопнул по карману. Под овчиной глухо брякнул спичечный коробок.
Давя в себе растущий озноб, Стал разгребать солому, добираясь до сухого слоя. Страх все сильнее мучил его. Он никак не мог понять, откуда, отчего наползает эта выматывающая слабость, ведь трое с автоматами и семеро с карабинами против вил и камней.
Он не любил размышлять. Иначе понял бы, что не страх за свою жизнь сосет его смутную душу, прикипевшую к разбою, а нечто другое. Он собирался обречь на голод людей, говорящих с ним на одном языке, хоронивших своих сородичей в той земле, где тлели и его предки.
Но он все-таки одолел себя, скорее, не он, а его самолюбивая злость на проигрыш. Стал вынимать спичку из коробка.
Председатель Ушахов был готов. Его готовность предусматривала даже раскаленный свинец, что может засесть в его теле. Теперь, когда Идрис на крыше вынул спичку из коробка, они с пастухом успели замкнуть людское кольцо вокруг фермы.
Аул сомкнулся за спиной налетчиков, и каждый из них ждал булыжника в спину в любую минуту. Ожидание выматывало, и, не выдержав, они стали стягиваться перебежками под стену фермы – к вожаку, – чтобы иметь за спиной каменную защиту. Из окон теперь не стреляли – можно было попасть в своих. Многоликий и единый в ненависти, кольцевал налетчиков аул.
Идрис на крыше чиркал спичкой по коробку. Пальцы его тряслись. Абу отчетливо видел это. Он сжал нагретую рукоять пистолета и шагнул вперед из-за спин.
Меж ним и стеной фермы стоял белый плацдарм. Он вспучивался на глазах, готовясь обрушиться на председателя, и, не дожидаясь этого, Абу выстрелил навскидку в черную человеческую плоть.
Он попал. Увидел, как заваливается на бок то, что миг назад было Косым Идрисом, и бросил пистолет на снег. Он уже ничего не слышал, тело его под бешметом сжалось в комок в ожидании автоматной очереди. Память еще цепко держала терзания той, фронтовой, боли в госпиталях. Но ни один из бандитов не двинулся, не решился переступить в себе последнее – ударить свинцом по старикам и женщинам, стоящим за председателем.
Жизнь возвращалась к Абу. Он вдохнул морозный воздух, и тот ожег немыслимой сладостью все внутри. Теперь к нему вернулся и слух. Мощно шелестело дыхание аула за его спиной, поскрипывал снег под ногами, необычно громко тарахтел коробок спичек, скатываясь с крыши. Сорвался и упал на снег, мелькнув перед лицом молодого налетчика со шмайсером. Тот вздрогнул и едва не нажал на курок.
Теперь Абу вспомнил, на что рассчитывал перед выстрелом. Он верил в родовую память. Эти, из банды, сгрудившиеся под стеной, совсем недавно ушли в тоскливую маету дезертирства с фронтов. И еще не успела сопреть та пуповина, сквозь которую аул вливал в них ощущение национального, кровно-близкого родства.
Наливаясь буйной, ликующей уверенностью, шагнул Абу вперед, увлекая за собой аул. Своим движением он все плотнее стягивал людское кольцо, сжимая пространство перед собой, как тугую пружину. В пяти шагах от стены он почувствовал, что пружина эта сдавлена уже до предела, и остановился. Заговорил:
– У вас мало времени. Вы, может быть, успеете убить меня, еще несколько женщин и стариков. Но потом вас засыплют камнями. И когда в каждом из вас не останется целой кости, вас выбросят в лес на пир шакалам.
Я убил Идриса, потому что он потерял все, за что его когда-то звали вайнахом: совесть, память, родину. Он продал все это за деньги герману.
Вы ждете, когда немцы займут Кавказ? Тот, кто еще не потерял разум, должен знать, что еще ни один воин, пришедший с оружием в дом к чужому народу, не становился для него братом.
Положите оружие и уходите. Мы выпустим вас. Но если вас поведет разум, вы придете в окопы, туда, где бьются с германом русский, чеченец, казах, ингуш – каждый, кто не хочет стать рабом.
Так говорил Абу, грудью, всем телом удерживая перед собой пружину между аулом и налетчиками. Он засевал набрякший страхом и ожиданием промежуток единственно нужными словами. Он извлекал их из глубины своего житейского опыта и чувствовал, что становится легче дышать.
Уже заметно слабела, оттаивала синюшная готовность пальцев на спусковых крючках, осмысленное, человечье проступало на затравленных лицах налетчиков. Он увидел первую расслабленность облегчения в руках самого молодого налетчика с автоматом. Этот очень хотел жить и потому был самым опасным.