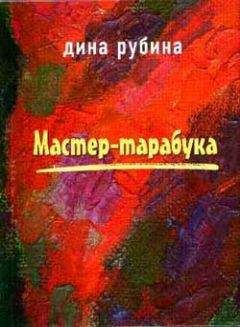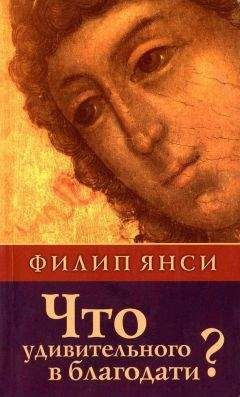Владимир Варшавский - Ожидание
Несколько других мальчиков с размаху пустили по паркету длинную деревянную скамью. Стремительно скользя по вощеной глади, она неслась прямо на меня. Я не успел посторониться. Скамейка ударила меня ребром по коленке, оглушив острой, нестерпимой болью.
Но моя растерянность продолжалась недолго. Я скоро привык к гимназии и занял в моем классе именно такое положение, какое по моим представлениям мне подобало.
Меня определили в третий приготовительный класс, в основное отделение. Мне это казалось естественным, что в основное, иначе и быть не могло. Ведь основной — это значит главный, а параллельный только добавочный к основному, его может и совсем не быть. Юра, который перешел теперь в первый класс, был тоже «основник».
Мы встречали «параллешек» только на переменках. Но уроки гимнастики у нас были общие. На первом же мы с дружными криками перетянули их на канате. Наше превосходство было установлено. И хотя впоследствии параллешки не раз нас перетягивали, это не поколебало моего убеждения, что мы всегда их побеждаем.
Первым общепризнанным силачом нашего класса был Игорь Александров, вторым — Арам Махутов. Оба второгодники. Никому и в голову не приходило оспаривать их первенство. Но на место третьего силача претендовало несколько мальчиков, в их числе и я.
У параллешек тоже были свои силачи. Главные Соколов и Лесли. Про Соколова один мальчик сказал: «сокол ясный — человек опасный». С тех пор, смотря на Соколова, рослого, светлоглазого, быстрого и ловкого в играх и свалках, я испытывал странное чувство: мальчик, а вместе с тем хищная птица, оборотень, таинственное, страшное существо.
Как-то на переменке, после обычных споров, кто сильнее, Соколов поборол Александрова, а Лесли — Махутова. Несмотря на это, мое убеждение в превосходстве наших силачей и всех нас основников над параллешками нисколько не поколебалось. Меня даже удивляло, что они сами по-видимому вовсе не страдают от того, что они параллешки. Так же, как мы, весело бегают и играют на переменках и вовсе не считают себя хуже нас, не сознают своего ничтожества. Встречая в коридоре параллешку, я насмешливо бросал: «параллельник-бездельник». Но я презирал их вовсе не потому, что считал бездельниками. Просто не подворачивалось другое слово в рифму. Все было не в этом слове, а в том, с каким презрением я его произносил. Как ни странно, презрение это было искреннее. Между тем я не мог не понимать, что параллешки такие же мальчики, как и мы, и что их определили в параллельный класс вовсе не потому, что они хуже нас, а по каким-то совсем другим, может быть, даже случайным соображениям. Мне скоро представился случай в этом убедиться. Инспектор Федор Антонович пришел в этот день к нам в класс с именным списком всех учеников. Рассматривая этот список, он с неудовольствием сказал, что нас в основном классе лишком много и некоторых придется перевести в параллельный. Замирая, я ждал, кого он сейчас назовет. Вдруг меня, наверное меня, со мной всегда случается все неприятное. И, действительно, как только я это подумал, Федор Антонович сказал: «вот хотя бы Гуськова».
Федор Антонович всегда говорил вкрадчиво, ласково. Мальчики прозвали его «скрипка». Но теперь мне показалось, он как-то враждебно и пренебрежительно произнес мое имя. Ведь он должен был знать, в какое отчаяние приведет меня его решение перевести меня в параллельный класс, какое это будет для меня несчастье, унижение, позор. Но, может быть, он именно этого и хотел? Он за что-то меня ненавидит и хочет наказать. Я видел это по безжалостному, злорадно-спокойному выражению его лица.
Я так рыдал, что озадаченный Федор Антонович согласился оставить меня в основном классе.
* * *Так же, как я не сомневаясь знал, что папа самый замечательный человек на свете, Россия — самая великая страна, а Москва — самый красивый и большой город, я был убежден, что наша гимназия — самая лучшая в Москве и во всей России. Иначе папа не отдал бы нас в эту гимназию. Мне даже жалко было мальчиков, которые учились в других гимназиях, не таких хороших, как наша. Но все же это были гимназисты, наши союзники. Другое дело реалисты, ученики коммерческих училищ, кадеты. Особенно кадеты. Я прочел рассказ, который долго потом вспоминал с чувством ужаса. Одного гимназиста перевели в кадетский корпус. Кадеты почему-то его возненавидели, называли синяя говядина. Когда он спал, они засунули ему в нос какие-то жгуты и подожгли их. Его снесли в лазарет.
Но все-таки и реалисты и кадеты были вроде гимназистов. Они ходили в таких же картузах и шинелях, как мы, только другого цвета. И у них дома верно было как у нас дома и у тех моих гимназических товарищей, у кого я бывал: много комнат, кухарки, горничные. Впрочем, был один мальчик в нашем классе. Его звали Кирсанов: белобрысый, сутулый, с отвисшей красной нижней губой и вздутым животом. Классный наставник Степан Максимович раз даже сказал ему: «Ну, чего пузо выпятил?»
Я не понимал Кирсанова. Мне и брату было запрещено покупать мороженное на улице. Мама считала, можно отравиться. Я, не сомневаясь, этому верил. Все, что говорили мои родители, было для меня истиной. Кирсанов же, к моему удивлению, совсем не боялся отравиться. В ответ на мои предостережения он сказал: «А я всегда ем и ни разу не отравился». И действительно он на одолженные у меня деньги купил при мне у бродячего мороженщика порцию мороженного и съел. Я смотрел на него со страхом и любопытством: сейчас он посинеет и начнет корчиться от боли, может быть, даже умрет. Но с ним ничего не случилось. На меня это произвело смущающее впечатление. Я был рад, что Кирсанов остался жив и невредим, но выходило, что мои родители ошибались. И Кирсанов запоем читал книжонки приключений Пинкертона и Ника Картера, которые мне и брату не разрешали читать.
А как-то мы ехали на извозчике и вдруг я с удивлением вижу, по тротуару идет Кирсанов, но не в гимназической форме, а в старых заплатанных штанах. Он шел не один, а рядом с высоким сутулым человеком в шляпе, с широкими обвислыми полями. Этот человек, верно, отец или дядя Кирсанова, был без галстука; из кармана его мятого холщового балахона торчало горлышко бутылки. Он нес удочки, а Кирсанов — ведерко. Тогда я почувствовал, что Кирсанов ведет дома непохожую на нашу, таинственную жизнь. Но все-таки он был гимназист, а не уличный мальчик. Те ходили не в форме, как мы, а в каких-то кацавейках, в валенках, в вытертых шапках. Свободно, без присмотра горничных и гувернанток бегали по улицам. Я думал, это все сыновья дворников, кухарок, прачек, и они живут не в квартирах со светлыми, большими комнатами, как наша, а в сырых подвалах, где, надрываясь от кашля их больные чахоткой матери стирают белье в клубах едкого пара. И учатся они не в гимназиях и реальных училищах, а у сапожников, которые бьют их колодками по голове. Читая в хрестоматиях рассказы о таких мальчиках, я горько плакал, так как мне их было жалко. Но в жизни это были уличные мальчики и нам не разрешали с ними играть. К тому же я скоро узнал, — они наши враги.
Я заметил, Александров, Махутов и еще несколько мальчиков часто говорят между собой о войне с какими-то огольцами. Я не знал, кто это такие — огольцы, но мне было обидно, что со мной не совещаются о войне с ними, словно я не был одним из силачей нашего класса. Я небрежно предложил Александрову: «Возьмите меня с собой, авось я с двумя-тремя справлюсь». Александров недоверчиво усмехнулся: «С двумя, тремя, — их много!»
Как-то после уроков мы пошли на Тверской бульвар, на ледяную гору. Едва мы пришли через калитку, как сзади раздались крики. Обернувшись, я увидел: два невесть откуда взявшихся уличных мальчика ожесточенно лупят Александрова кулаками по картузу, словно хотят вбить его в землю. Подпрыгивая у него по бокам, они, казалось, на мгновение повисали в воздухе, как на гигантских шагах.
В гимназии мы никогда так не дрались. Мы боролись, пихались, хотели победить, но вовсе не хотели сделать друг другу больно. А эти мальчики били Александрова по голове изо всей силы, с недетской злобой.
Я с удивлением видел, Александров ничуть не испугался. Мне даже показалось, он хитро улыбается. Но, видимо, считая, что сопротивляться теперь бесполезно, он, слегка присев, только старался защитить голову руками.
Все это произошло так неожиданно, так быстро, что мы смотрели будто завороженные. Не успели мы опомниться, как уличные мальчики исчезли так же внезапно, как появились. Проходившая мимо дама остановилась около Александрова и сказала расстроенным голосом: «Мальчики, да не играйте вы с ними, они голову могут проломить». Тогда Александров, быстро нагнувшись, поднял с земли облепленный песком ком обледенелого снега и, показывая его даме, — «они дерутся вот этим», — широко открыв рот, заревел. Я смотрел на него с недоумением. Ведь уличные мальчики вовсе не били его этим обледенелым комом и он заревел нарочно, чтобы еще больше разжалобить даму. Мне самому не пришло бы в голову так соврать, и я не мог бы притворно заплакать.