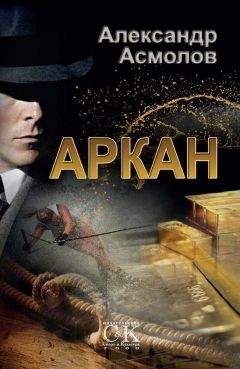Александр Золотько - Рождество по-новорусски
– Угрожаешь?
– Зачем? Наоборот. Я тебя спасти хочу. Знаешь, что вчера делала твоя мама?
– Трахалась опять с кем-то? – зло спросил Леонид. – Не с тобой?
– Не со мной, – покачал головой Гринчук. – И не знаю, трахалась ли вообще, хотя о матери я такого не говорил бы.
– Матери… – проворчал Леонид.
– Твоя мать решила сыграть ва-банк. Ты ведь у нас немного пострадал психически, такая травма для юной психики… Вот заботливая мама решила провести твое освидетельствование на тему психического здоровья. И даже стала договариваться с доктором. Если консилиум соберется, то тебя признают идиотом на всю оставшуюся жизнь. И она будет тебя опекать не год, чего ты так боялся, а всю жизнь. Ты будешь находиться в дурдоме, может быть даже очень хорошем дурдоме, где-нибудь на Багамах, с видом на море, а мама будет тратить твои денежки. И очень заботится о тебе. Соображаешь? – Гринчук прислонился к стене и скрестил на груди руки, демонстрируя совершеннейшее спокойствие.
Леонид недоверчиво покачал головой.
– Не правда.
– Отчего же? – осведомился Гринчук.
– Она этого не сможет…
– Прекрати, Леня. Почему она этого не сможет? Из материнских чувств? Или по закону? Так для вас законы не писаны, милый. И к тому же, по закону ей никто не может помешать. Понял? Никто. Она, обеспокоенная твоим состоянием, обращается к врачу. Тот помещает тебя в клинику, а там ты и сам забудешь, нормальный ты или нет. Возражай, Леня!
Липский сжал свои щеки руками. Его глаза неподвижно смотрели перед собой, а тело начало раскачиваться.
– Она… – пробормотал Липский.
– Именно. Она. Она очень хочет быть богатой и влиятельной. И года ей не хватит. А тебя будут очень старательно лечить. И никто не сможет помешать твоей матери тебя любить и лечить. Никто. Кроме…
Липский не сразу осознал это «кроме». Но когда понял, жадно посмотрел на Гринчука:
– Ты сказал…
– ВЫ сказали.
– Вы сказали, что…
– Тебя могу выручить я, – кивнул Гринчук. – И, похоже, только я. Понимаешь, кроме любящей мамы твое освидетельствование могу организовать я. Совершенно законно. В принципе, это может сделать следователь, который ведет это дело, но он с тобой, я полагаю, разговаривать не станет. Он тебя лично не знает. Никто из ментов тебя лично не знает. А уж ты и подавно не знаешь никого, кроме меня. Охрана ваша, во главе со Шмелем, не в счет. У них нет официального права на такую фигную.
– А я сам?
– Нет, ты еще несовершеннолетний. Через годик. Или по моему направлению. И если у тебя будет официальная бумага о том, что ты скорее нормален, чем нет, то твоей маме останется только год о тебе заботиться в расчете на твою взаимность, – Гринчук снова улыбнулся, на этот раз почти по-человечески.
С пониманием.
– А если я не вспомню…
– Тогда я подскажу эту мысль твой маме, – охотно пояснил Гринчук. – Пока с ее знакомым врачом побеседовал и отговорил мой угрюмый подчиненный прапорщик Бортнев – ты его знаешь – но все ведь возможно переиграть. В принципе, я с самого начала мог бы договориться с ней. Но она не сможет отдать мне четыре миллиона долларов сразу, в одной сумке. Нужно будет подождать, пока она соберет, а там она чего-нибудь придумает, сбежит, не дай бог. Мороки не оберешься. Но, если ты не вспомнишь, придется играться с твоей мамой и тянуть из нее деньги в рассрочку.
Леонид сидел, глядя в пол.
– Я бы мог еще подождать, – сказал Гринчук, – но сегодня был найден основной организатор, на этот раз – точно, а не подстава. Завтра у меня могут потребовать дело закрыть. И тогда между тобой и твоей мамой никто уже не встанет. Никто не отмажет тебя от дурки.
– Я…
– Да пошел ты! – взорвался вдруг Гринчук. – Мне надоело тебе все это объяснять. Надоело. Пошел отсюда, ублюдок. У тебя есть один день – я смогу все это удержать. Если нет, если ты действительно страдаешь склерозом, или если такой жадный, что решишь отправиться из-за этих бабок в сумасшедший дом – ничего не поделаешь, придется мне сторговываться с твоей матерью. Если же ты вспомнишь…
Гричук достал из кармана мобильный телефон, набрал номер:
– Ало, Шмель?
Леонид вздрогнул.
– Ты помнишь, как меня вчера поднял среди ночи? Ну, так долг платежом красен. Слышал о самоубийце? А, тебя туда Полковник погнал? Большая просьба, вырви кусочек времени и сам приедь в Центр. Или пришли кого-нибудь из своих, забери этого засранца, Ленечку Липского. Сделай одолжение… Что? Прямо сейчас. А то я его своими руками придушу. Мать? Я думаю, что матери лучше побыть еще здесь, да. У них тоже не особо отношения складываются. Да. Отвези его домой к нему… Там же прибрали уже? Не знаешь? Прибрали, я посылал людей. С Михаилом. Да. И пусть с Леней кто-нибудь посидит. А то у него что-то с нервами… Да ну его, придурка. Он и был-то не слишком нормальным, а сейчас… Ну, сам понимаешь. Меня достал, Мишу, Братка – всех. Не допусти убийства, прошу. Да? Сам приедешь? Ну, до встречи.
Гринчук спрятал телефон в карман.
– Какая ты сволочь, – пробормотал Липский.
– Я хочу быть богатой сволочью, – сказал Гричук. – Четыре миллиона для начала меня устроят. Ты пока собирай вещи, а я поговорю с твой любящей мамой. И ты начинай лихорадочно думать, куда спрятали деньги те уроды. Время пошло.
Гринчук вышел из комнаты.
Надежда Юрьевна была женщиной опытной и деловой. Возмущаться поздним визитом подполковника милиции она стала только поначалу, потом, поняв, о чем речь, немедленно успокоилась и стала слушать.
Гринчук говорил на понятном ей языке, не поминая морально-нравственные принципы, а четко и доходчиво раскладывая возможные перспективы на прибыли и убытки. Естественно, Сомову больше устраивал вариант, при котором Леонид отправляется в сумасшедший дом, а Гринчук, в услугах которого больше не нуждаются, соответственно, на фиг. Гринчука, понятное дело, этот вариант как раз не устраивал.
Пришлось Сомовой соглашаться ждать. Либо пятьсот тысяч и один год попечительства. Либо попечительство на всю жизнь, но с выплатой четырех миллионов в рассрочку под веские гарантии. О гарантиях обещал позаботиться сам Гринчук.
Гринчук был непреклонен, уговоры, намеки и как бы случайно обнажившиеся части тела Сомовой на него не действовали.
– Значит, – подвел итоги после получаса переговоров Гринчук. – Сынок сейчас едет домой, думает и рассуждает. Вспоминает. Вы, мадам, отдыхаете здесь. Под чутким руководством Доктора. Леонида дома охраняют, всячески о нем заботятся и обеспечивают режим максимального благоприятствования. Часам к пятнадцати-шестнадцати он точно сообщает, вспомнил или нет, после чего мы либо совместными усилиями доставляем его на обследование, либо забираем деньги. Жалобы, возражения и предложения есть? Нету.
В дверь постучали.
– Войдите, – сказал Гринчук.
В комнату заглянул Кошкин:
– Это… Приехали… За…
Исчерпав припасенные для доклада слова, Кошкин ткнул пальцем в Сомову.
– Быстро Шмель прилетел, – одобрительно заметил Гринчук. – Как реактивный.
Игорь Иванович ждал в коридоре.
– Еще раз – привет, – сказал Гринчук, протягивая руку.
– Еще одна такая ночь – и я сойду с ума. Вместо Лени Липского, – пожаловался Шмель. – Пацан тебя так достал?
– Не то слово, – понизил голос Гринчук, – на мать бросался, урод. Хотя, если честно, мать та еще девочка.
Гринчук открыл дверь палаты Липского:
– На выход с вещами!
Леня вышел сразу, будто стоял прямо за дверью.
– Вот, Игорь Иванович тебя отвезет домой и покараулит, чтобы тебе не было страшно, – сказал Гринчук.
– Хорошо, – сказал Липский.
– А кто тебя спрашивает? – удивился Гринчук. – С мамой твоей я уже договорился, она, в общем-то, очень надеется, что тебе нечего вспоминать. Очень надеется.
Последнюю фразу Гринчук произнес с нажимом и угрозой, словно киношный злодей.
– Она очень торопится, но готова подождать до пятнадцати ноль-ноль. В крайнем случае – шестнадцать ноль-ноль. После чего она начинает ужасно волноваться и делиться своими опасениями по поводу твоей психики со всеми подряд. Чем это закончится – сам понимаешь.
Липский молча кивнул.
– Вот такие дела, – сказал Гринчук и снова протянул руку Шмелю. – Удачи тебе в работе и спорте.
– Пока, – пожал руку Шмель и, не оборачиваясь на Липского, пошел на выход.
Леонид поплелся следом.
Уже закрывая за собой дверь, затравленно оглянулся на Гринчука. Словно загнанный в угол звереныш. С ненавистью и тоской.
Гринчук этот взгляд выдержал.
Дверь закрылась.
Гринчук остался стоять в коридоре один.
Он не чувствовал своего тела. Руки повисли словно парализованные. Он превратился в одно большое сердце. Удары сотрясали каждую его клеточку.
От ударов вздрагивали стены коридора. И вздрагивал пол.
Его сердце.
Гринчук попытался приложить руку к груди, но рука не послушалась.
Залитая кровью комната, напомнил себе Гринчук. Люди, словно разбросанные злым ребенком куклы. Простреленный покемон. Залитый кровью долматинец. Кровь на стенах, на полу, на ковре, на лицах.