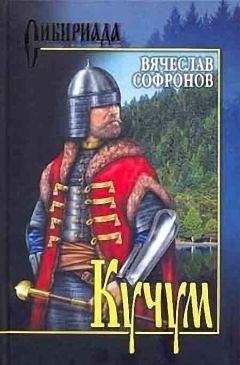Борис Климычев - Корона скифа
— Хуже! — сказал Шершпинский, опускаясь на кушетку, крамольники хоть люди интеллигентные, а это — каторжники!
— Ага! А вы еще о своей дворянской чести волнуетесь. А ваше прошлое меж тем берет вас за кадычок-с! Ну, так и разделывайтесь с ним сами, мы-то при чем? Мы и так сделали для вас немало — закрыли глаза на ваши, мягко говоря, заблуждения юности.
— Помилуйте! Игнатий Васильевич! В доме у Ахмета Касымова, в меблированных комнатах сидят нынче такие головорезы, что… В дворне у меня не найдется никого, кто с ними смог бы разделаться. Мне монтевистка порошок дала, надо напасть на полового, когда он им обед понесет…
— Пфуй! Роман Станиславович! Что это вы такое говорите, какие азиатские страсти в нашей великой столице! В наше-то время! Отравители! А еще образованный человек! Вашу монтевистку я непременно вышлю завтра же из города и как можно дальше.
— Не трогали бы убогую, Ваше превосходительство. А то получится, что она ко мне- с добром, а я её — в петлю!
— Ладно… Пока не трону. А этих сибиряков мы в холодную упрячем, авось не замерзнут, привычны…
— Ага, в холодную, а я потом — дрожи всю жизнь. Они сбегут или выйдут и непременно доберутся до меня…
— Ну, пока, прощайте, Роман Станиславович. Не волнуйтесь. Почаще приглашайте важных персон в ваш дом, узнавайте настроения, ясно?..
Игнатий Васильевич взял Шершпинского под руку и пошел с ним к двери, давая понять, что аудиенция окончена.
Шершпинский был раздосадован до невозможности. Ай-ай! Как глупо! Надо было самому одним махом покончить с этим делом. Нашел заступников! У них свои резоны. Им крамолу искоренять, а бандиты им — что? Они — по другому ведомству.
Шершпинский вспомнил Оленева. Николай Николаевич! Да! Или долг пусть отдает, или с этими потрошителями пусть разделывается.
Оленев был бравый рубака. Совсем юнцом отличился в Крымскую. Потом в Польше заслужил награды, управляясь с повстанцами. И был в военном ведомстве в почете. Шершпинский познакомился с ним у Буткова, пригласил к себе. Играли в карты, чертили мелками по сукну. И Шершпинский проигрывал.
Оленеву у Романа Романовича понравилось. Шершпинский потихоньку подзуживал Анельку: ей не удастся соблазнить этого солдафончика, уж слишком примерный семьянин.
Анелька подняла бровь:
— Сей жолнеж через неделю будет пить вино из моей туфли!
И уж так старалась! В светлых, невинных одеяниях, когда в раскрытом рояле дрожали струны, и пахло ярым желтым воском оплывающих свечей, и от печи тянуло далекой Италианской землей, которая в Анелькином пении вся шумела своими заливами, Везувиями, тарантеллами, пиниями, вином.
Аккомпанировал Анельке Джакомо Ваззети, а на самом деле это был цыган из Дунькиной рощи, но большой мастер рояля, очень смазливый. В таборе его звали просто Гришкой.
Гришка мастерски изображали итальянца, он впадал в экстаз, пальцы мчались по клавишам, а глаза музыканта были закрыты, он продолжал играть, вставая, затем садясь зачем-то на пол. Потом поворачивался спиной к роялю и, в таком положении, продолжал играть, это казалось уж совсем невозможным.
Разгоряченная пением Анелька, в конце концов, брала Оленева под руку, говорила, что душно ей, просила проводить в зимний сад, шла, опершись о жесткую руку Николая Николаевича.
То она была ласкова с ним, то держалась отчужденно. Вся ветреная, смешливая, меняющаяся, как морская вода в той самой Италии, песни которой она так хорошо пела.
Оленев и сам не заметил, как попался в её сети. И забывал и жену, и свою любимицу маленькую дочурку. Только возвращаясь домой, начинал мучиться угрызениями совести. Но проходил день, другой, и его снова неудержимо тянуло к Шершпинскому.
Опьяненный и вином, и любовью, он терял бдительность за карточным столом и много проиграл Шершпинскому. И выяснилось вскоре, что долг свой он никак не сможет возместить. А понятие о чести было высоким. Шершпинский не торопил, говорил — подождет.
Теперь он шел к своему должнику.
Оленев, только что проснувшийся, вышел в халате, так как лакей доложил, что его спрашивает какой-то оборванец, утверждающий, будто он есть Шершпинский.
Оленев увидел в прихожей безобразного старика, хотел велеть гнать его в шею, но старик сказал голосом Шершпинского:
— Не удивляйтесь, Николай Николаевич и простите мне мой машкерад, но так надобно.
Оленев отвечал, что да, он сразу не признал своего друга, он просит извинения за то, что вышел к нему в халате, но слуга доложил о каком-то старике…
Оленев был удивлен и ошарашен видом Шершпинского и был не очень-то рад раннему визитеру, тем более, что визит мог означать только одно: Шершпинский опять напомнит о долге. И голубоглазый и томный красавец не ошибся: Роман Станиславович именно об этом и заговорил.
— Подождите еще, дорогой друг, век за вас буду бога молить. Сейчас, ну — никакой возможности!
— Я бы подождал, но речь идет о моей жизни, никак не меньше… так что будьте добры рассчитаться…
Взглянув на побледневшего Оленева, Шершпинский сказал:
— Впрочем, есть один способ вам рассчитаться со мной и без денег.
— Это как же?
Шершпинский кратко рассказал о банде, которая жаждет его крови.
— Я нанял людей, которые следят за их квартирой, но нужен смелый человек, который с ними расправится. Я думаю, лучше вас никто это не сделает.
— Как?! Вы мне предлагаете совершить убийство?
— Я предлагаю вам покарать убийц, и отнюдь не бесплатно, я не только прощу вам долг, но дам вам еще столько же, как только вы сделаете дело!
Оленев взялся за голову:
— Бред какой-то. Вы — в этом одеянии, такие предложения…
Шершпинский взял Оленева под руку и вполголоса вкратце поведал
предысторию.
Оленев задумался. Потом встряхнул головой:
— Согласен! Но как же к ним подойти? И как потом самому спастись от полиции?
— А вот это мы сейчас обсудим! — обрадовано отозвался Шершпинский, пройдемте куда-нибудь к камину, а то я в этих рехмотах продрог ужасно, да прикажите подать красного вина…
А в то же самое время в доме татарина Ахметки Хакимова сидели в полуподвальной комнате за столом с четвертью вина трое: Петька Гвоздь, Сашка Сажин и сам Ахмет.
— Шершня надо распотрошить как можно скорее, да смываться отсюда, легавых слишком много. Что, Хамитка, твои татары бают?
— Всяко смотрят. Глаз, как щелка делают. Шершень другой день из дома носа не кажет.
— Сидит? Небось, не отсидится. Выпьем за успех! Возьмем золото у Шершня, тебе, Хамитка, долю дадим, да и свалим! — поднял стакан с вином Сажин.
Гвоздь сказал:
— Надо выпить за тех, кто под запором, да за тех, кто под забором, да за тех, кто в тайге-матушке лежать остался. Фильку жалко, да Демку.
— Демку- да! — отвечал Сажин, а Фильку чего жалеть? Мы его в побег коровой и брали. Ну, стало голодно в пути, и съели. На то и корова!
— Я почти не ел, — сказал Гвоздь, потупясь.
— Жрал, чего там! Я же видел… — засмеялся Сажин, — голод не тетка. Да ты не журись, не ты — первый, не ты — последний. Мы в острог не сами себя посадили, значит, и вина перед богом не на нас. Бог людей для свободы создал, мы его волю и выполняем, когда на свободу рвемся…
В этот момент вошел татарин, и низко кланяясь Хамиту, что-то сказал по-татарски.
— Чего он?! — насторожился Сажин.
— Брандмейстер пришел, печки проверять, от перекалов горим мало-мало в нашем городе Петербурхе, кажную зиму. Печи проверит и уйдет, мои печки харошши, трещщын нигде нет!
Хамит вышел. Друзья продолжали выпивку.
— Шершня выдоим, на Волгу подадимся. Царская рыба в низовье ходит. Купим лодки и сети. Заживем!
— Сюда еще ходи, пожалуйста! Тут одна еще печь и тоже хорошая! — раздался голос Хамитки. Дверь отворилась, Хамитка вошел в сопровождении брандмейстера.
— Садись, служба, выпей с нами! — пригласил брандмейстера Сажин.
— Спасибо! — сказал пожарный чин, — вдруг сделал резкое движение и — пах! — пах! — пах! — сверкнуло три оглушительных огня из рук его.
Сажин упал замертво. Гвоздь, получив пулю в плечо, высадил табуретом окошко и сиганул в него. Раненный Хамитка вцепился в брандмейстера окровавленными руками. Вбежали татары, стали вязать пожарника.
— Убрать руки, хамье! Я дворянин и офицер! Кому говорю, мразь!
Это был Николай Николаевич Оленев.
7. К ВАМ ЕДЕТ…
Лететь в санках с горы, тормозя заостренной палкой, вздымая снежный прах. А вашу шею обнимают руки в пуховых варежках, и русая коса щекочет вашу бритую щеку, и чудо дышит рядом морозной свежестью, разжеванной карамелькой и губной помадой.
Ах, сибирская, долгая, буйная зима! И твои забавы могут наскучить! Вон на льду реки Ушайки одиноко стынут хрустальные ледяные гроты и лабиринты, слоны и дельфины, изваянные умельцами из снега. И всё реже видишь возле них мальчишек и девчонок.