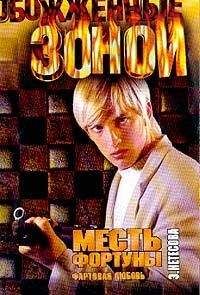Петр Катериничев - Тропа барса
— Кобель ты… — Инесса провела рукой по моей ноге вверх, больно схватила:
— Ну что, хорошо?
— С-сука… — выдавила я сквозь зубы. Странно, но страха совсем не было. Только злость. — Попробуй тронь… Я тебя пристрелю, поняла?
Инесса поняла. Самое удивительное, что и до меня тоже дошло, что я говорю абсолютно серьезно и способна пристрелить эту стерву безо всякой жалости. Вместе с этим накачанным кобельком.
Пощечина была резкой и звонкой. Инесса хлестала меня по щекам, еще, еще… Я зажмурилась, чувствуя, как рот наполняет кровь от рассеченных губ… Голова загудела, словно колокол, а она все лепила и лепила свои оплеухи… Неожиданно затрещины прекратились. Инесса завизжала, как течная кошка, и кинулась на Альберта, завалила его, уселась сверху… И снова заорала — теперь ее голос был похож на визг циркулярной пилы, под которую подставили железный рельс…
Я плакала. Слезы попадали на разбитые губы, их щипало жутко…
Инесса затихла, встала, подошла ко мне. Бесцеремонно сунула руку в трусики.
Скривилась:
— Сухая, как наждак. — Повернулась к Ваннычу, констатировала, пожав плечами:
— Больная, наверное.
— Сама ты — сука бешеная! — выкрикнула я, выплевывая слова вместе с кровью. В ответ получила тяжеленную затрещину, такую, что голова дернулась и поплыла куда-то — это «мужественный» Альбертик расстарался…
— Ну и что будем с ней теперь делать, мамуля?
— Раз больная — будут лечить. В дурдоме. — От чего?
— Там найдут.
— А все же?
— Отправим ее по наркоте. На месячишко. А та позабочусь: из дурки она уже не выйдет. Никогда.
— А эта ее товарка? Соседка по комнате. Вдруг хай подымет?
— Не подымет. Медвинская та еще стерва, я их на нюх чую!
— У нее Гордиенко в заступниках.
— Точно знаешь?
— А то…
— Ничего. Найдем и на нее управу. А Гордиенко тот — сластолюб, каких мало.
Пригласим-ка его к нам на пикничок, а?
— По полной программе?
— Обязательно. Медосмотр, все такое… Да поглядим, кто ему приглянется… С тремя в коечке покувыркаться куда веселее, чем с одной…
— А если он подставу почует?
— А мы ему — эфедринчику в винцо… Ты же знаешь, что он с людьми делает, а? Не мужчинка, а просто один сплошной пенис! — Инесса облизала губки. — И крошкам не забудь вколоть, чтобы развлекли Михаил Семеныча по полной программе… Так что Катьку, как только объявится, под белы руки — и в дурку, следом за ней…
— А если Гордиенко после эфедринчика свою Медвинскую потребует?
— А мы ему — справочку… Дескать, гонорея у девочки, в диспансере лечится… Я позвоню Эльзе Геннадьевне, договорюсь…
— Так мы что ее, в диспансер запирать будем?
— Кого?
— Да Катьку.
— Тупой ты, Альбертик. А может, это и к лучшему. Ну-ну, не дуйся. Зато красавец — спасу нет. Все девки ревмя ревут. Катьку вслед за этой — тоже в дурдом. Или ты думаешь, Гордиенко в диспансер навещать Медвинскую поедет?
— Хм… Старперы, они странные… Может, он запал на эту Медвинскую?
— Плохо ты мужчинок знаешь. Да и откуда тебе? Как скажем тому Гордиенке, что его подружка гонорею подхватила, да со скорбью скажем, вроде и не знаем об их играх ничего, дескать, мы, глупые, недоглядели, как наша девушка-подросток на базаре со всяким отребьем якшается, что он подумает? Во-первых, о своем драгоценном здоровьице подумает… И не подарил ли он чего милейшей супружнице Елизавете Карповне… Хотя вряд ли: на эту бочку на ножках ни у кого уже не встанет. А потом что подумает? Что сука эта Медвинская… И все они суки… И будет прав. А тут мы его на медосмотр и потянем: дескать, здесь промашка вышла, но мы за здоровьем воспитанниц следим как следует… Пусть налюбуется на все девичьи прелести… А ты с эфедринчиком подсуетись вовремя, понял? Чтобы этого козла бодучего дрожь уже колотила, как мы на него наших нимфеточек выпустим… И — пропал мужчинка… От такого секса не отказываются. Альбертик слушал раскрыв рот:
— Ну у тебя и голова, мамуля…
— Учись. Хотя… — Она оглядела Альбертика так, словно это был не человек, а некий агрегат. — Ладно. А с этой…
— На иглу посадить?
— Не стоит на нее добро переводить. Покормишь «колесами», посечешь ей лезвием немножко вены — да смотри не перестарайся! — и можно сдавать. Скажем, попытка самоубийства. И поведение агрессивное, и все такое… На месяц запрем, а там…
— Она наклонилась ко мне:
— Что, детка, весело тебе? А скоро будет еще веселее… Через пару-тройку месяцев в дурке станешь тихая и по-слушненькая, а?
Вот тогда и поговорим с тобой — в моей спальне…
Я собралась с силами и плюнула ей в лицо. Инесса утерлась платочком и снова хлестнула меня по щеке. Закончила:
— Как шелковая будешь… И бельишко я подберу тебе шелковое… И сечь буду розгой, пока рубашонка кровью не обмокнет… — Глаза ее помутнели, стали как бельма, в них заплескалось тяжелое черное безумие… Я оцепенела от страха.
— Пойдем, мамуля… — дернул ее за руку обеспокоенный Альбертик.
— Что? — Она глянула на него странно. Постояла несколько секунд молча, словно возвращаясь откуда-то, произнесла уже вполне нормальным голосом:
— Пошли.
Сделаешь, как я сказала.
— Не беспокойся. Сделаю.
Дальше… Дальше мне стало все равно. Единственное, было жалко, что не успею предупредить Медвинскую. Кажется, Альберт даже удивился, когда я безропотно позволила накормить себя таблетками. Потом он взял лезвие, предупредил:
— Сейчас будет немножко больно…
Заботливый! И легонько полоснул по руке, вскрыв вены едва-едва, через минуту замотал порез и залепил пластырем.
Машина из дурки приехала часа через два. Сначала они, видимо, побеседовали с Инессой, потом курчавобородый коротышка доктор сделал мне укол, а я, и так после лошадиной дозы реланиума тупая, как оловянная кастрюля, стала и вовсе похожа на выставленное стекло: все отражает, ничего не соображает, если щелкнуть ногтем — звенит. Здоровенный санитар сгреб меня в охапку и отнес в машину.
Все приемные процедуры тоже прошли как во сне. Помню. как выдавали в приемном покое белье и халат, как водили в душ… Потом поместили в смотровую палату. Две девки топотали и орали что-то всю ночь. Полупьяная санитарка появлялась пару раз, материла их и удалялась. Если я и спала, то это больше походило на бред.
Часов в пять утра две эти телки доконались и до меня. Одна потрясла за плечо, спросила:
— Эй, новенькая, покурим?
— Я не курю, — пробурчала я, попыталась накрыться с головой, но та не отвязалась.
— Ты дура или кто?
— Сама ты дура.
— Не. Я шировая. А ты шизюшка, — что ли?
— Нет.
— Тогда шировая?
— Нет.
— Чего ты нам вкручиваешь?!
— Меня сюда директриса поместила. Детдомовская.
— А-а-а… Профилактика. Я промолчала.
— Ты вот чего, девка, сильно тут не залупайся. А то заколют. Выйдешь точно полной дурой, а то вообще не выйдешь, пропишешься. Здесь много таких. А раз ты не нужна никому — тут и сгинешь. Поняла?
Мне стало страшно. Я накрылась с головой одеялом, чувствуя, как на глазах закипели слезы.
— Я — Верка. Мазаева. Мы с Машкой тут от тюряги косим. Здесь вообще-то кайфно, если по уму. И сбежать — легче легкого. Только зачем? Скоро осень, потом — зима.
Перезимуем хоть в тепле. А под лето на юга подорвем. Побежишь с нами?
— Я здесь столько не пробуду.
— Это ты так думаешь. Еще как пробудешь. А если заву понравишься…
— Кому?
— Завотделением. Не боись, он мужик для нас безопасный, потому как голубой. Гей.
И с девками любит просто разговоры разговаривать о наших женских долях. Умный — сил нет. Жаль только, что не мужик… Трахаться хочется — как из пушки! А санитары мной брезгуют. Ты молодая, ты себе живо медбратика найдешь… Или он тебя… Ладно, дрыхни. Нам с Маткой и вдвоем нехило.
Я повернулась на бок и зажмурила глаза. Мне стало жутко.
— Ну че? — спросила девку ее товарка.
— Да шизанутая какая-то. Из детдома.
— Не курит?
— Не.
— Ну и хрен с ней. У нас че осталось?
— Чуточку.
— Давай.
Я уже провалилась в тяжелый, разрывающийся разноцветными кругами сон, когда снова услышала их слаженную топотню по комнате и хриплые выкрики Верки:
— Лайф из лайф, ля-ля-ля-ля-ля, кайф из кайф, ля-ля-ля-ля-ля, кайф из кайф!
Утром меня отвели к завотделением. Очень красивый мужчинка лет сорока, чисто выбритый, с длинными, по моде семидесятых, волосами, выкрашенными в ореховый цвет, потрещал длинными, чисто промытыми пальцами с ухоженными ногтями, поглядел на меня долгим взглядом блекло-голубых глаз, улыбнулся:
— Будем знакомы. Меня зовут Виктор Викторович Ланевский. А вас?
— Аля.
— Очень хорошо, деточка, очень хорошо.
«А что тут хорошего?» — подумала я, но вслух не сказала.
— Тебя тяготит жизнь, Аля?
— Нисколько.
— Это правильно. Жизнь — приятная штука. Ты еще очень молода, но даже не представляешь себе, до чего приятная… Море, солнце, любовь… — произнес он, закатив блеклые глаза к потолку. Надел очки с толстыми линзами и словно разом приблизился ко мне. — Ты знаешь, что такое любовь?..