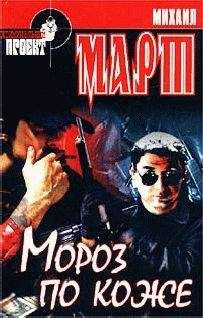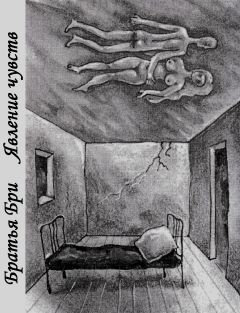Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
Белосельцев видел близкое сверкание океана, летящий навстречу асфальт. Держался за руль, чувствуя ее движения, толчки и удары о трещины, торможение на сыпучем песке. И весь этот блеск и скорость сливались в счастливый горячий ритм, отраженный на ее взволнованном счастливом лице.
– Мы на глиссере или на самолете? – смеялась она. – Взлетим или поплывем?
Докатили до края асфальта. Наклонившись, он рукой переставил ее стопу с акселератора на тормоз. Помог развернуться, вписал машину в ширину посадочной полосы и снова постепено напитал мотор скоростью.
Океан бросал бесчисленные синие вспышки. Лизал их синим огнем. Волосы ее были вылеплены ветром в недвижный ворох. Сзади на сиденье колотился брошенный автомат, тряслась на днище упавшая фотокамера. Отпуская руль, закрывая глаза, он прижался губами к ее затылку, разрушив неподвижность ее волос, окруженный их плеском. Испытал на мгновение счастливый обморок, словно автомобиль выпустил крылья, колыхнулся в воздушном потоке и взмыл, не касаясь земли.
Остановили машину. Сидели, отдыхая, раскрыв настежь дверцы, обдуваемые океаном.
– Хочу запомнить этот день. То дерево в океане. Этот сумасшедший полет. Неужели все пропадет? Неужели нельзя унести с собой?
– Почему нельзя? А моя фотокамера? – Он открыл футляр, обнажил объектив, тот, что недавно снимал разрушение и смерть. Легонько дунул, словно отгонял мутную дымку, оставшуюся от предшествующей съемки. – У меня к тебе просьба. Этот океан, этот чудесный песок. Изумительное небо. Ты сама словно создана из воды, из лучей. Хочу снимать тебя, как если бы снимал оленя, дерево, птицу.
Она поднялась из машины, просто, без стеснения совлекла с себя оранжевый легкий купальник, одеваясь в ветер, в свет, в прилетающие из океана огни. Он смотрел на нее с целомудренным восхищением, любя не только ее, но и сияющий вокруг нее воздух и весь окрестный, ею наполненный мир: отдаленные голубые и зеленые горы, далекую на водах полосу солнца, промелькнувшую птицу, присевшую на травину стрекозку.
– Что мне делать?
– Ступай от меня к воде…
Он отправил ее против солнца и снимал контражуром. Огни со всех сторон окружали ее, и она оказалась в слепящей короне. Почти исчезла, расплавилась, превратилась в струящийся свет. Вновь собиралась из летучих огней. Повернулась и пошла к нему, медленно, улыбаясь, издалекая приближая к нему свое прелестное тело. И он фотографировал ее не голубыми отшлифованными стеклами, а своим прозрачным, зорким, любящим ее сердцем.
Он делал ее портреты много раз. Так близко, что был виден сетчатый дышащий узор ее губ, яркие точки в глазах, струйки света в волосах, бегущие по тончайшим световодам. И отступив – чтобы видны были все чудесные линии, дуги, окружности, из которых она состояла и которые имели свое продолжение в мягких очертаниях берега, волнистых гор, в колыхании вод, в качении солнца по небу. Были волшебной геометрией прекрасного, бесконечного мира, куда она его увлекала.
– Все? Я могу одеться?
– Одевайся. Теперь это никуда не исчезнет…
Валентину и Сесара он отпустил купаться, проследив, как они прыжками преодолели раскаленный песок и слились с бушующей водой. А сам, предвкушая давно задуманное, взлелеянное в Москве, в сырых моросящих туманах, приготовился к ловле бабочек. К любимой охоте, доставлявшей ему тончайшее наслаждение, питавшей давнишнюю, с юности, страсть. Извлек из пакета алюминиевые трубки. Свинтил, превратив в длинный упругий стержень. Достал обруч с марлей, раздувая кисею, испещренную желтоватыми и зеленоватыми точками – метинами пойманных и умерщвленных бабочек Кампучии, Анголы, Нигерии. Навинтил обруч на алюминиевую трость и легонько повел, наполняя сачок ветром, пропуская сквозь зыбкую ткань воздух Нового Света вместе с мельчайшей цветочной пыльцой, брызгами и песчинками.
Сачок был орудием лова, наподобие дротика, охотничьего ружья, нацеленного в удар, в истребление. Пошел, держа на весу снасть, переводя свое зрение в иной диапазон, с иным фокусным расстоянием зрачков, исключающим все прочие зрелища, кроме листьев, цветов, реющих бабочек.
Прошел сквозь заросли, где хлюпала топкая почва, на край луговины, помня, что здесь, когда проезжали, металось скопище бабочек. Едва ступил на кудрявые травы, едва ощутил на лице душный растительный жар, под ногами заклубилось, запорхало, бесшумно заметалось желтое, красное. Бабочки взлетали, на мгновение обжигали зрачок и тут же падали, пьяно впивались в цветы. С колотящимся сердцем, удерживая себя на черте наслаждения, он умерял свою страсть. Не позволял себе кинуться на это доступное, ошеломляющее богатство.
Успокоился. Превратил свое возбуждение в собранную, целеустремленную точность, в редкие удары сердца, в упругое напряжение мускулов. Предплечье, запястье, кисть плавно переходили в древко сачка, готовые к броску и удару.
Он сделал шаг. Бабочка взлетела с цветка, небольшая, бело-золотистая, со смуглой каймой. Успев ощутить ее короткий острокрылый полет, он сразил ее взмахом. Вычерпал из воздуха, отделив от внешнего мира светлой кисеей. Повернул сачок, перекрыв обручем выход из ловушки. Держал у глаз, видя, как трепещет, пульсирует ткань, волнуемая крыльями. Бабочка чуть просвечивала, давила крыльями, беспокоила марлю.
Это была первая бабочка, пойманная им в Латинской Америке. Волнуясь, нежно стискивая кисею, тесня добычу на дно сачка, он чувствовал ладонью ее шлепающие тихие удары, умирял их, подбирался пальцами к твердой грудке. Задержав на мгновенье дыхание, сжал пальцы, ломая хрупкий хитин, разрушая, останавливая крохотный заложенный в бабочку двигатель.
Вытряхнул ее на ладонь, и она изгибалась последним, уже после смерти, движением. Уперлась крыльями, приподняла и выдавила тельце, замерла на ладони. Он приблизил лицо, смотрел на совершенное изделие, не испытывая жалости, а лишь восхищаясь. Пил ее цвет и орнамент, повторял ее в себе, находил свое сходство с ней. Будто в нем таинственно, из сумеречных тотемных времен, жила бабочка. От нее он вел свою родословную. Она, забытая, присутствовала в его человеческой сути, расправляла в нем свои разноцветные перепонки.
Это была лаура из семейства нимфалид, с заостренными передними крыльями, зазубренной неровной кромкой, смугло-коричневая, а не белесая, какой казалась в полете, с песчано-желтыми полосами, переходящими в белое. При легком повороте головы, при изменении ракурса на задних крыльях вдруг сочно, пугая своим драгоценным лилово-голубым отливом, зажигались два продолговатых пятна. И этот синий, как горящий спирт, огонь бушевал в бабочке. Меняя наклон ладони, он еще и еще раз вызывал этот свет.
Она, лежавшая у него на руке, казалась абсолютным выраженим этой земли и страны. Ее ландшафта, расцветок, двух омывающих страну океанов, смуглых гор, белоснежных, плывущих в небесах облаков. Она таила в себе красноватый оттенок возделанных почв, чересполосицу кофейных плантаций, пепельных каменистых проселков. На ней тончайшей техникой, не рисунком, не буквами, а звуком, как на крохотном диске, была записана история этих земель с древней цивилизацией инков, испанским нашествием, с разрушением языческих храмов и возведением барочных витиеватых соборов. Он не мог объяснить, но чувствовал, что на этих распахнутых крыльях была запечатлена история новейших времен: партизанские отряды Сандино, революционные колонны в Манагуа, автомобиль, подожженный базукой, в котором погиб Сомоса, недавний пожар Коринто, тринадцать штурмов Сан-Педро, и вчерашняя ночь у подножия вулкана, и сегодняшнее плывущее дерево. На этих утонченных, откованных на небесной наковальне пластинах была занесена колоссальная информация о мире. И о нем, Белосельцеве, посетившем этот мир. И если научиться вглядываться, научиться читать письмена и иероглифы, можно узнать свои собственные концы и начала, свою жизнь и смерть.
Держа на ладони добычу, он извлек жестяную коробку, где лежали бумажные складни с ватой. Стряхнул в один из них бабочку, и она улеглась, как слайд. Будет покоиться до Москвы в своей усыпальнице. Мысленно поцеловал ее и закрыл коробку. Охота его продолжалась.
Он медленно шел по луговине, действуя сачком, захватывая фосфоресцирующих желтушек, кирпично-красных перловиц, маленьких, вертких, с длинными шпорами толстоголовок. Называл их русскими именами, не успевая разглядеть, наполняя ими жестяную коробку. Умерщвленные, они в самолете пересекут океан, дождутся зимних московских деньков, ледяных тоскливых ночей. Тогда он извлечет их невесомые сухие тельца, уложит на влажный фарфор тарелки, пока не пропитаются влагой, не обретут эластичность. Тогда он расправит их на мягком липовом ложе, наколет на тончайшую сталь, станет пеленать в белые бинты, как мумию. Расправленная, высохшая бабочка займет свое место в коллекции, а он в московской ночи, гудящей от ледяного бурана, вспомнит этот луг, горячий пот на лице, мерцающий, прерванный ударом полет.