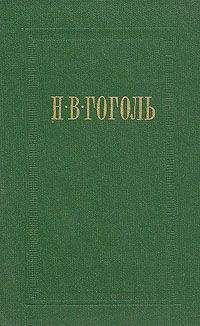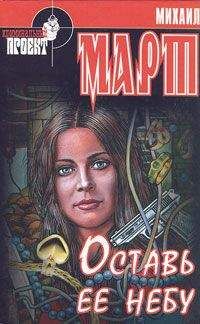Николай Стародымов - Братишка, оставь покурить!
Естественно. И в то же время оно ведь бездоказательно! Если не считать моей беседы с Мюридом и его братьями, о которой я, естественно, никому не доложил.
— Но ведь фактов нет, — тихо соврал я.
Радомир сделал вид, что не обратил внимания на то, что, произнося эти слова, я на него старался не смотреть.
— Были б факты, Костя, с тобой и разговаривали бы по-другому, — так же тихо ответил он.
И стало ясно, что он знает что-то больше того, что говорит.
В стаканчиках вновь булькала ракия.
— Однако трогать тебя сербы не решаются. Твои ребята уже ездили к командованию, пригрозили все тут на уши поставить, если с тобой что-то случится.
В душе у меня шевельнулось нечто похожее на нежность к товарищам. Я-то всегда держался от них в стороне. А они вон как, уже к командованию ездили… На уши… Они могут, если захотят, они такие.
— И что же?
— Славко заверил, что о результатах разбирательства обязательно будет доведено до добровольцев.
Ловко. Значит, нашим сообщат только результаты. Ну а ими, результатами, манипулировать, как известно, можно как кому заблагорассудится.
— Ну а наши что на это ответили?
— Казаки ответили, что если ты в чем-то виноват, то судить тебя должны они, по своим законам, а не сербы… Кстати, а правда, что казачий круг своей волей может присудить к смерти? А то Ромка сказал, что в их власти, если ты и в самом деле предатель, набить тебе за пазуху камней — и бросить в воду…
Ишь, крючкотворцы судейские, — усмехнулся я по себя. Судить они меня будут…
— Могут, — коротко подтвердил я. — И что на это Славко ответил?
Радомир не ответил, опять забулькал ракией. И заговорил, стараясь на меня не смотреть.
— Сейчас, Костя, речь не о том, кто что кому сказал. Главное для тебя в том, кто что сделает.
Логично.
— И кто же что мне может сделать?
Было очевидно, что мы подошли к главному пункту нашего разговора. Не было сомнения, что и ракия тут появилась именно по этой причине.
— Слушай, Костя, как бы ситуация ни складывалась, тебе обязательно нужно уезжать отсюда.
Скажу откровенно: ни на йоту не сомневался, что разговор наш пойдет именно об этом.
— На колу мочало — начинай сначала, — прокомментировал я его слова.
— Да ты пойми… — начал было Радомир.
Однако я его перебил:
— Это ты пойми! Бросить Мириам здесь я не могу.
— Что, такая уж любовь? — в голосе Радомира звучала неприкрытая издевка.
Любовь? Не знаю. Вряд ли. А там — кто его знает… В конце концов, еще никому не удалось дать точное определение, что же такое любовь.
Когда тебе уже за сорок, когда ты бесконечно одинок и когда к тебе, презирая людскую молву и традиции, ластится юная девушка, даже если ты понимаешь, что ею движет некий корыстный интерес, все равно начинаешь испытывать к ней нечто большее, чем простое плотское влечение. Это объективно.
Ну а субъективно… Я и сам еще не разобрался в своем отношении к ней. Просто мне очень хотелось, чтобы в жизнь вошел кто-то, кому я был бы нужен, о ком хотелось бы заботиться. Это в молодости ищешь приключений и феерии чувств. К старости хочется покоя, причем, покоя не столько физически-комфортного, сколько покоя душевного. А Мириам в мою жизнь такой покой привнесла. Так что же удивительного, что она заняла в моей душе определенное место?
Да и ребенок… Да, у меня есть Ярослав. Да вот только видел я его так редко. То Афган, то «зона»… И вот он уже взрослый. Когда сидел в «зоне», нет-нет, а появлялись мысли о том, что хоть под старость смогу понянчиться с внуками. А теперь этой возможности лишен.
И вот появляется Мириам. Я у нее так и не спросил, насколько серьезны мои предположения о ее беременности. И не потому, что боялся ее утвердительного ответа — я боялся ОТРИЦАТЕЛЬНОГО! Это странно, но я ХОТЕЛ, чтобы у нее родился младенец. Пусть не мой, пусть от француза — но младенец! Потому что коль уж мне не выпало счастья быть настоящим отцом, коль не дано побыть дедом, так хотя бы потешусь с ребеночком Мириам. Я его уже заранее любил, этого французско-мусульманского незаконнорожденного человечка, грехопадение матери которого сейчас пытались прикрыть моим именем…
— Так что же, ты ее действительно любишь? — не дождавшись ответа, еще раз, но уже без издевки, серьезно спросил Радомир.
— Любишь — не любишь… — уклонился я от подобной постановки вопроса. — Давай оперировать иными категориями. Скажем так: я просто не могу ее бросить.
Радомир поднял свой стаканчик, слегка звякнул им по моему. Я поднял свой, опрокинул его в рот.
Что-то меня повело от выпитого. Захотелось спать. Вроде бы выспался…
Радомир это заметил, усмехнулся. Отставил свой стаканчик и вдруг заговорил быстро, торопливо, стараясь успеть выговориться.
— Ну а теперь, Костя, слушай и не перебивай меня… Знаешь, бывают моменты, когда приходится поступать против совести, а повинуясь разуму… Сейчас у меня такое же положение… Я, Костя, тебе верю. Однако это только эмоции, а все факты говорят против тебя. Поэтому мы решили тебе помочь. Причем так, чтобы тебя потом не мучила совесть. Ты, Костя, сейчас уснешь, мы тебе подсыпали снотворное… Не перебивай, я же тебя просил, у нас слишком мало времени… Так вот, ты сейчас уснешь, а проснешься уже далеко отсюда. Дозвола на тебя уже готова. О Мириам мы позаботимся, о ней можешь не беспокоиться.
Мысли путались, перед глазами наплывал, колыхался, постепенно густея, туман.
— Ты предатель, Радомир, — с трудом выговорил я.
— Наверное, — его слова доносились все глуше, словно между нами вырастала стена. — Но я так делаю для твоего же блага…
— Предатель… — повторил я, хотя не уверен, что смог выговорить это слово.
Потому что именно на этом слове мое сознание окончательно оборвалось.
Часть шестая
Прошлое. Гей, славяне!
Я так глубоко задумался, о том, как мне устроиться на предстоящие два дня, что не сразу обратил внимание на шум скандала, который возник и теперь все нарастал у меня за спиной.
— Я тебе, гнида, — неслось оттуда, щедро пересыпаемое отборным матом, — сейчас все здесь вдребезги разнесу!.. Разжирели, сволочи…
— Да мои ребята из тебя отбивную сделают!.. — не оставался в накладе второй собеседник.
Пришлось обернуться, чтобы посмотреть, в чем суть и предмет столь высокоинтеллектуального диалога.
У стойки стоял мужчина лет тридцати с небольшим. А с той стороны, набычившись, глядел на него все тот же Витек. Только теперь в нем не было видно той лености, с которой он взирал на меня. Не так уж трудно было понять, что клиент остался недоволен качеством обслуживания, а Витек выражал недовольство недовольством клиента. Поскольку меня и самого здесь встретили не слишком ласково, я, конечно, был полностью на стороне потребителя.
— Ау, спорщики! — подал я голос.
Они оба оглянулись в мою сторону.
— Витек, обслужи клиента! — внушительно сказал я. — А ты, приятель, тоже притихни и садись ко мне.
Не знаю, как бы я поступил, если бы кто-то попытался таким образом разговаривать со мной. Однако я уже убеждался, и не раз убеждался, что большинство людей приказному тону, даже постороннего человека, подчиняются без особого сопротивления. Особенно, если, как сейчас, такой приказной тон позволял разрядить обстановку.
Произнеся эту фразу, я отвернулся к своей тарелке. И подумал о том, что если они не подчинятся моей команде, я окажусь в глупейшем положении. А впрочем, кому какое дело, в каком положении я окажусь, после того, как дожую свои пельмени и уйду отсюда?
Словно в ответ на мои сомнения, по цементному полу громко и резко проскрипели ножки стула и рядом со мной плюхнулся тот мужчина.
— Ты что, хозяин этой тошниловки? — с неприкрытым вызовом спросил он.
Я от души усмехнулся:
— А я очень похож на человека, у которого есть хоть что-то?
Мужчина хмыкнул:
— Не очень.
К столику подошла девица, которая обслуживала меня и громко поставила перед моим собеседником тарелку. Тоже с пельменями, залитыми кроваво красным кетчупом.
— Это вам тут не ресторан, — сообщила она. — Так что я не обязана подавать…
— Я заплачу за обслуживание, — примирительно сказал мужчина.
Теперь он чувствовал себя обязанным мне. Сейчас он начнет что-то рассказывать или объяснять. А мне его проблемы нужны, как русалке купальник.
И не дано мне было знать в тот момент, насколько на мою судьбу повлияет эта глупая история.
…Надо сказать, вообще в судьбе не так уж редко происходит, что случайный, почти неощутимо-невесомый импульс переводит стрелки движения человека по жизни на принципиально иные рельсы. Одно время мне довелось работать на железнодорожной станции. Именно там я впервые задумался об этом.
Вот есть проложенный человеком железнодорожный путь. И есть пневматическая стрелка. К ней, к этой стрелке подходит тонкая труба, в которую под большим давлением закачивается воздух. Где-то далеко отсюда находится диспетчер, который ее, именно эту конкретную стрелку, скорее всего ни разу в глаза не видел. Он сидит за пультом, нажимает кнопку, замыкающую всего-то два тоненьких электрических проводка, где-то срабатывает реле, открывается клапан — и коротенькое дуновение воздуха переводит тяжеленные рельсы всего-то на пяток сантиметров в сторону. И этого достаточно, чтобы весь многотонный состав с сотнями пассажиров устремился в другую сторону, на запасный путь, а то и вовсе в заброшенный проржавевший тупик.