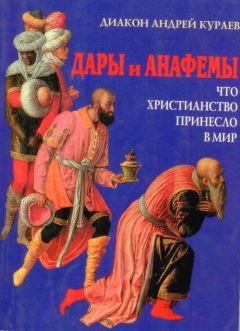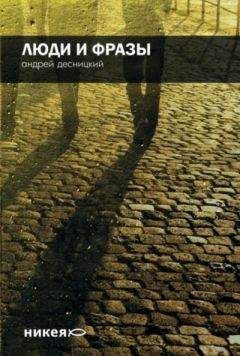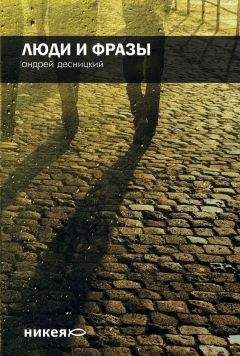Елена Крюкова - Красная луна
Заткни хайло.
Не заткну! Лучше я спою гимн!
Лучше прикончи ту, что валяется под Крестом. Она уже все равно не жилица.
Черные тучи летели по небу. Красные звезды впечатывались во мрак, прожигая его до дыр. Во дворах на Тверской, за каменными свечами домов, полыхал огонь. Доносились истошные крики. Толпа валила вглубь города, в старые дворы, и крик усиливался, рвал черное сукно ночи. Бритый мордастый скинхед вливал в себя из горла бутылки водку, запрокинув голову, подставив широко раскрытый рот под ледяную струю.
Звон битого стекла. Треск срываемых дверей. Грохот переворачиваемых машин. Вы счастливы, что вы увидели, как человек убивает человека? Это совсем не страшно. Это скучно и обыденно. Это всего лишь работа. Врете, падлы! Это священнодействие. Это сакральный акт. Тот, кто убил, омывается не кровью убитого — кровью богов.
А иди ты в задницу со своими священными богами, сука! У тебя пивка с собой нет?!
Есть. На. Держи. Холодненькое. С морозца. За пазухой не согрелось. У меня, кореш, ледяное сердце-то.
Баскаков высунулся из машины. Хайдер подбежал к его машине, распахнул дверцу.
Как?!
Не спрашивай. Это обвал.
Это начало, Хайдер!
Ты еще веришь в начала и концы, Ростислав?! — Он упал рядом с ним на сиденье. — Гони!
Куда?
К ним. К ним, говорю! — Баскаков смотрел ощерясь, как пойманный в капкан зверь. — К ним, к нашим! На Тверскую!
Шум шин напоминал шорох полоза. Баскаков гнал от Бункера до Тверской что есть сил. Им чудом удавалось миновать милицейские посты — Баскаков, хулиган, прицепил к своей потрепанной тачке правительственный номер.
Ты не думаешь, Ростислав, что это все цирк бесплатный?
Что?! — Затылок Баскакова, сидевшего за рулем, побагровел. — Я — от тебя — такое слышу?! Ты, часом, не травки обкурился, майн Фюрер? С бесплатного цирка, запомни, всегда начинаются мировые потрясения! И мы…
Мы-мы-мы, — пробормотал Хайдер, закурил, выдыхал дым через опущенное боковое стекло. — Мы, всегда мы, вечно мы. Двадцатый век был веком коллектива. Веком толпы. Мы играем на дудке, называемой — «Мы». Мы выезжаем на инстинктах толпы. Прошедший век вскормила баба-богиня, чудовищная Фрикка с двадцатью грудями. Или многогрудая Артемис. Толпами умирали; толпами воскресали; миллионы сгнивали заживо и миллионы рождались. Ты-то, Ростислав, хоть отдаешь себе отчет в том, что нас — по сравнению с этими миллионными толпами — горстка? По крайней мере — здесь и сейчас.
Баскаков обернул к нему злое, ощерившееся лицо.
Да, здесь и сейчас! Да! Здесь! И сейчас! — Угол его рта дергался. Слева от дороги послышался свист пули. Потом — крик. Потом — звон разбитого стекла. — И хорошо! И правильно! Настанет день, когда мы поведем твои любимые миллионы…
Ты такой оптимист?
Впереди, на дороге, показались люди. Черная, мятущаяся толпа. В ночи казалось — сумасшедшая, заблудившаяся демонстрация, или, может, тайные ночные похороны вождя. Шум за машинным стеклом усилился. От черного сгустка толпы отделялись фигуры, бежали прочь, закрывая руками головы. Слышались крики: «Милиция!.. Где милиция?!..» Хайдер выпустил струю белесого дыма в окно.
Я здоровый исторический пессимист, — сказал он тихо. — Я тебе это говорю не просто так. Это я должен был сказать тебе, Рост, Хрустальной ночью. Которую мы, мы-мы-мы, так тщательно готовили. Именно сегодня. Именно сейчас.
Баскаков, вцепившись в руль, обернулся к нему. Его зубы и белки его сощуренных глаз хищно блеснули.
Ты хочешь сказать, что ты снимаешь с себя полномочия Вождя?!
Я хочу сказать, что все, что делает на земле человек, порастает серебряной травой времени. Лунной травой, Рост. Наркотической травкой.
Ты стал баловаться? — Баскаков брезгливо дернул губой. Повернул машину влево. Прижал к бордюру. — Дальше ехать нельзя. Мы и так продвигаемся по городу нелегально. Хочешь глянуть на свою многофигурную композицию? Все не по-моему. Я бы все сделал не так. Ты не слушаешь кадрового военного! Вы все, мать вашу, дилетанты! Дилетанты и романтики!
Вот и я то же тебе говорю. Спасибо, что понял.
Хайдер распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Баскаков крикнул ему в спину:
Береги себя!
Хайдер кинул, полуобернувшись:
Ты тоже.
Баскаков, закусив губу, глядел ему вслед. Эта их дурацкая черная униформа! Эти их черные тупорылые ботинки, на длинной военной шнуровке! Их всех можно отловить только по униформе. Говорил же он им всем, он, Баскаков: форма хороша только для парада. Сражаться надо в военном платье. А оно у солдата вовек одно: гимнастерка, сапоги. Хайдер любит показуху. А сейчас такое время, что воевать надо каждый день, и во всем цивильном, и неважно, кто в чем одет, важно — победил ты или нет. Победа, сладкое слово. Такое же сладкое, как свобода. На самом деле в мире нет ничего, кроме поражения и решетки, за которой все сидят.
Решетка религии.
Решетка любви.
Решетка морали.
Решетка обмана.
Решетка власти.
Всякая власть — это решетка. Без кристаллической решетки развалится минерал. Без арматуры рухнет мост. Хайдер слабак. Он романтик. Он не умеет построить решетку. Всегда надо начинать с решетки. Решетка — это скелет. Человека без скелета нет. Без скелета это — амеба.
Хайдер бежал, проталкиваясь сквозь толпу, туда, где между домов, над крышами, вился дым, больше всего толпилось народу и громче всех кричали. Тысяча мыслей проносилась в его голове, и он тут же их забывал. Ему казалось: у него голова пусткая, как котел. Это он сам подбивал своих скинхедов — режьте, бейте, убивайте! Сегодня ваш час! И что? Час настал, а отчего он сам — как мертвый? Как манекен. Ни волнения. Ни ужаса. Ни воли, сжатой в кулак. Будто он смотрит по видику какой-то новый военный триллер, какой-то модный боевик, не американский, а русский, и все катится вокруг него колесом, коловратом, а он стоит, как гвоздь, вбитый в центр коловрата, и все крутится, крутится, крутится вокруг него, а его самого никто не замечает.
Он сказал себе: тебя схватят, Хайдер. Тебя могут схватить в любую минуту, помни это. Тебя схватят и будут допрашивать, может быть, пытать, может быть, расстреляют. Однако ты играешь в борца за освобождение родины. От кого?!
Внезапно вся зимняя ночь, Тверская, кремлевские густо-красные башни вдали, черная муравьиная толпа высветились перед ним ярче молнии, будто бы все озарилось вспышкой магния. Отец рассказывал ему про вспышку магния в старинном фотоателье. В призрачном ярком, слепящем свете ему внезапно предстали все их бритоголовые сборища, все героические потуги, все свастики на рукавах, все Кельтские Кресты, вытатуированные на лбах и запястьях, все вскинутые руки и вопли: «Ха-а-айль!», все усилия по добыче и по хранению оружия, и волосы на миг встали у него на голове дыбом: зачем я ввязался во все это? Зачем я стал во главе стихии, водопада, лавины?! Лавина должна падать сама, без посторонней помощи. Падать и разрушать, и погребать под собой жертвы, а потом умирать в наступившей мертвой тишине. И никто не должен вставать впереди лавины и вести ее за собой, как быка на веревке. Он внезапно, в озарении, понял: общество — это тоже природа, и человек, как бы он ни старался дирижировать обществом себе подобных, никогда не сможет управлять единым природным оркестром. Все равно все играют враскосец. Кто в лес, кто по дрова. Вот только умирают все, к сожалению, одинаково. Отыграв каждый — свою, сужденную, партию.
Он проталкивался сквозь стихию. Он, сцепив зубы, уворачивался от ударов. Он сам дал кому-то в зубы. Было уже за полночь, а Тверская гудела и кишела народом, как в Новый год. Эти его пацанята уже, как тараканы, расползлись по квартирам, по адресам инородцев, что загодя собрали. Холодный пот потек у него по спине, между лопаток. Им не всем удастся спастись! Он делал их героями — а сделал жертвами!
Он представил себе: в мирно спящей армянской, грузинской, еврейской семье заполночь раздается трезвон, хозяин, сонный, открывает дверь, а на пороге — бритые мальчишки в черном, и в руках — пистолеты, ножи… Волна пота снова захлестнула его. Хайдер! Не ври себе! Ты испугался! Ты наложил в штаны, потому что ты понял: ты — на сегодня — предводитель разбойничьей шайки, а не Священный Ярл! Ты родил Новый Вариант Старой Войны?! Ты ничего не родил! Ты слепо, жалко скопировал!
«Я скопировал потому, что это все носилось в воздухе», - жалко, оправдательно шепнули губы. Он вытер ладонью бритую голову. Неожиданно пришла простая, как кусок хлеба, мысль: если его задержит милиция, он пустит себе пулю в лоб.
Он сунул руку в карман. «Магнум» был на месте. Еще посмотрим, кто кого. Он себя — они его — или он их. Еще решим. Самое хорошее решение — экспромт.
И, совсем уж странно и страшно, из ночной тьмы перед ним выплыло, восстало, будто из белизны зимнего моря, женское лицо. Оно стало огромным, лицо, заполонило собой весь свет. Оно сияло над ним в небе. Ярко-красные косы, убранные в тяжелый пучок. Длинные желтые глаза. Хищно блестящие в улыбке зубы. Женщина, поманившая его собой. Женщина, посулившая ему златые горы того, о чем он грезил всегда: власти.