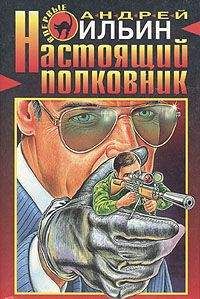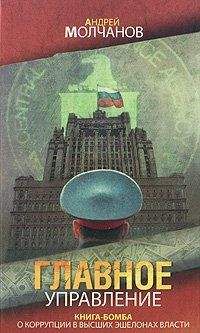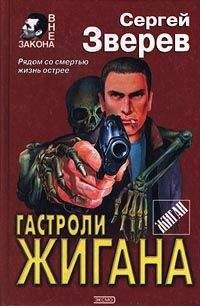Андрей Молчанов - Улыбка зверя
Впрочем, в правильности такой своей ассоциации он вскоре убедился, ибо усмотрел на небольшой полукруглой эстраде в центре зала одиноко торчавшие пюпитры, лежавшую на стуле скрипку, матово поблескивающий на крышке рояля саксофон, три гитары, скученно прислоненные к стене у боковой неприметной двери и потому будто бы чем-то совещающиеся… Определенно, только что музыканты ушли на кратковременный роздых.
Официант подвел парочку к свободному столику, принял заказ.
Трое мужчин за соседним столом прекратили жевать и уставились на Аду.
“То-то же…” — самодовольно подумал Прозоров.
Боковая дверь открылась и на эстраду, вытирая губы, гуськом стали подниматься музыканты.
Прозоров, в ожидании Ады успевший выпить на кухне три объемных рюмки, чувствовал теперь легкое праздничное опьянение и переживал тот кратковременный блаженный момент, который бывает у людей в самом начале застолья. Мир вокруг него сиял свежо и обновленно, люди казались исключительно симпатичными и, в сущности, замечательными существами. Он прекрасно понимал иллюзорность своего мироощущения, но ему вдруг захотелось выпить еще и еще, чтобы приумножить свою радость.
Шустрый официант между тем уже успел обернуться и теперь хлопотал вокруг Прозорова и Ады, выставляя на середину стола запотевший графинчик водки, бутылку красного сухого вина, салаты, закуски, хлеб…
— Горячее через минуту, — предупредил он, отступая, и добавил еще нечто услужливое, что утонуло в пронзительном гуле ожившего вдруг микрофона.
Вслед за оглушающим радиотехническим звуком раздалось покашливание, изданное лысым краснолицым барабанщиком, который, прочистив горло, объявил развязным, с ноткой приблатненности тенорком:
— А сейчас по просьбе гостей из Калуги исполняется песня “Братва, не стреляйте друг друга…”
— Самое время выпить, — сказал Иван Васильевич, воспользовавшись секундной паузой. — И вот что еще хочу тебе сказать, покуда я трезвый… А мне почему-то ужасно хочется сегодня напиться…
— Мне тоже, — неожиданно поддержала его Ада.
— Почему бы нет… — улыбнувшись, повторил ее слова Прозоров и поднял рюмку. — И пока я трезвый, я говорю тебе: Ты единственная и неповторимая…
— А как же администраторша в “Парадизе”? — ехидно перебила Ада.
— Анатомия и физиология, — нашелся Иван Васильевич.
— Ясно, Прозоров… Старый, похотливый лис.
— Старый, Ада… — непритворно вздохнул Прозоров. — Такой груз на мне… Давай, выпьем за это. Знаешь, за что? “Я не буду больше молодым…” Вот за что…
Заревела музыка, взвыл саксофон, взвизгнула скрипка.
В дальнем углу ресторана за большим столом пили стоя.
“Братва из Калуги”, — без труда догадался Иван Васильевич.
— Мне нужно кое-кого помянуть, — наливая себе еще одну рюмку, сказал он. — Не чокаясь…
Ада что-то говорила ему в ответ немыми губами, пытаясь преодолеть музыку.
— Не важно, — сказал Прозоров и выпил.
Невесть откуда взявшийся официант проворно расставлял новые блюда.
— Я ведь люблю тебя, Ада, — вслух признавался Прозоров, зная, что слова его пропадают втуне, что никто его не услышит. — Ну и пусть, — продолжал он, чувствуя, как сладко трепыхнулось в груди сердце и как внезапно повлажнели глаза. — И не надо слышать. Но, честное слово, никак не ожидал от себя…
Ада молча и серьезно глядела на него. Прозорову вдруг показалось, что она все слышит, и он немного устыдился своей сентиментальной расслабленности.
“А и пусть!.. — подумал он. — Надо же когда-нибудь отпустить тормоза и пожить по полной своей воле…”
Еще дрожал в табачном мареве последний аккорд прозвучавшей песни, а он уже поднимался со стула. Отметив с некоторым удивлением, что его слегка пошатывает, Прозоров невольно подобрался и старательным твердым шагом направился к эстраде.
— Песня, — сказал он, обращаясь к лысому барабанщику. — Сколько стоит песня?
— Хорошая песня стоит дорого, — пожевав губами, сказал лысый, с видимой привычностью оценивая платежеспособность клиента, возраст, вкусы и процент алкоголя в крови. — Стольник.
— Ага, — Прозоров вытащил сто долларов. — Ага…
– “Не жалею…”? — спросил лысый.
— Именно, друг! “…не зову, не плачу…” Именно!
— Как объявить?
— Без объявления, — решительно мотнул головойПрозоров. — Мы же не из Баку… Я свой.
Иван Васильевич шел к столу, а за его спиной приблатненный тенор уже и жалел, и звал, и плакал…
Прозоров молча сел за стол, оперся подбородком о кулаки и пригорюнился…
Ада с любопытством и с легким недоумением поглядывала на него.
— Как-то скоро кончилась песня, — сказал Иван Васильевич. — Не успел толком вчувствоваться. Если ты не против, я еще раз поставлю пластинку.
— Давай, — пригубив бокал, кивнула Ада.
Сцена повторилась вновь, но и на этот раз Прозоров не успел “восчувствовать” как следует…
— Давай! — озорно блеснув глазами, опять разрешила Ада.
Прозоров отправился к барабанщику.
— Лимит исчерпан, — сказал лысый. — Может, другое что? А то публика нервничает…
— Трудно найти равноценное. — Прозоров задумался. — Ладно… “Черный ворон” давай…
— Слишком драматично, — возразил лысый. — Публика будет нервничать…
— Отряхаю прах, — объявил Прозоров и вернулся на место.
— Ну что? — спросила его Ада.
— Лимит исчерпан, — горестно сказал Иван Васильевич. — Не любо мне здесь… Уходим…
Он как-то внезапно протрезвел, но знал, что данное просветление — ненадолго.
Ада молча поднялась и пошла вслед за Прозоровым. Наперерез им бросился шустрый официант с пустым подносом.
— Возьми, друг, — сказал Прозоров, кинув на поднос несколько купюр. — Там на столе еще…
— Премного благодарен…
— То-то же, — хмыкнул Иван Васильевич и поспешил за уходящей Адой.
Догуливали в народном ресторане Казанского вокзала. За песню здесь брали гораздо дешевле, а тенор, к удивлению Прозорова был все тот же.
— Вот что, брат, — сказал Прозоров точно такому же лысому барабанщику, когда песню исполнили уже трижды кряду. — Надо двенадцать раз. Пять раз уже повторяли, осталось — семь… Давай, брат, оптом…
— На опт скидок нет. Цена розничная…
— Черт с тобой, пой…
— Сокращенный вариант. Иначе публика будет волноваться…
— Давай сокращенный, — махнул рукой Иван Васильевич.
С небольшими паузами “Я не буду больше молодым” было исполнено еще семь раз подряд. Последний вариант был сокращен до двух куплетов…
— Ах ты, горюшко мое! — говорил растроганный Прозоров. — До чего же славно иногда напиться… Что ни говори, а не дураки были русские купцы, когда куролесили в ресторанах… Зеркала били… Давай, Ада, рассобачим вон то зеркало…
Но Ада, крепко взяв его под локоть, повела его к выходу.
— Слушаю и повинуюсь, — покорно кивал Прозоров, натыкаясь на колонны. — Слушаю и повинуюсь…
Наутро Иван Васильевич был тих и безмолвен. Долго стоял под холодным душем, с омерзением вспоминая свои вчерашние медовые слезы и дешевые кабацкие выходки. Растерся жестким полотенцем, пригладил сырые волосы, обильно оросил себя одеколоном.
— Доброе утро, — хмуро произнес он, входя на кухню и стараясь не встречаться взглядом с Адой. — М-да… Погуляли вчера… Несколько…
— Привет, — отозвалась Ада. — Не переживай, Прозоров. Все было замечательно.
Прозоров присел на стул, взял чашку с чаем.
— Хороший день, — нейтрально сказал он, выглядывая в окно. — Солнышко… Может, в парк сходить, развеяться?..
— А поехали кататься на пароходе, — предложила Ада. — Я когда-то давным-давно каталась по Москве-реке… И тоже была осень, и был солнечный день…
— Не знаю, — засомневался Прозоров.
— Пива с собой возьмем, — подзадоривала Ада.
— Поедем, — согласился Иван Васильевич. — Но только не пива. Пиво — напиток плебеев…
Ада всплеснула руками и радостно захохотала:
— Прозоров, ты уж не обижайся, давно хотела тебе сказать… Только не оскорбляйся, но, откровенно говоря, ты до чрезвычайности похож именно на древнеримского плебея!
У Симонова монастыря они сели на речной теплоход и поплыли в сторону Киевского вокзала.
— Римский плебей хотел бы угостить патрицианку красным вином, — усаживаясь за столик на верхней палубе, сказал Прозоров и извлек из портфеля бутылку. Добавил, как бы извиняясь: — Все-таки полтора часа плавания…
Все это время он с недоумением прислушивался к себе, пытался проанализировать свои чувства и — не узнавал себя. Вряд ли нынешние его настроения были связаны со вчерашней гульбой и утренним похмельем, все началось далеко не вчера… В нем исподволь происходили неожиданные для него перемены, словно некий панцирь и крепкая стена, которыми был он огражден от мира и которые он так тщательно и упорно возводил всю свою жизнь, внезапно дали незаметные трещины, впоследствии стремительно расширившиеся, побежавшие извилистыми ответвлениями, и вот уже спасительные ограды начинают осыпаться сухим песком, рушиться, обваливаться. Зазияли безнадежные и невосстановимые проломы, загуляли в душе его непрошеные сквозняки. Не без удивления Прозоров обнаружил в душе своей что-то до сих пор неведомое, лишнее, мешающее жить просто и четко, сеявшее сомнения в правильности жизненного пути своего и отчуждающее от мира. То, что считал он своей неизменной природной сущностью, оказалось на поверку всего лишь имитацией, цепью выработанных привычек, камуфляжным прикрытием, за которым расстилалась бездна, и дыхание этой бездны пугало его.