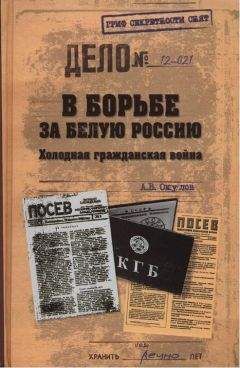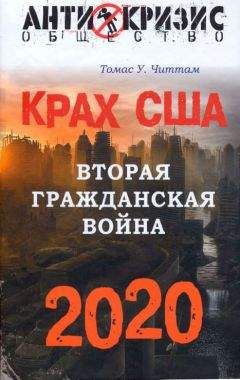Борис Сопельняк - Багровая земля (сборник)
Сейчас вам выдадут белье и верхнюю одежду английского образца. Кто хочет, может отказаться, но тогда на обед ему придется идти голышом… Друзья, а в палатках вас ждет не только обед, но и фронтовые сто грамм.
– Ура-а! – снова гремит предбанник.
– А мы что, рыжие?! – заголосили женщины. – Налейте и нам!
Шутя, толкаясь и подначивая друг друга, все начинают одинаково одеваться. И никто, ни один из этих умудренных жизнью людей не чувствует подвоха.
А майор Локридж на радостях наливает и себе, и двум офицерам:
– Все! Теперь они – из одной овчарни. Теперь сам Господь Бог не разберется, кто был за Гитлера, а кто за Сталина. Нам это все равно, наша задача – отправить их в Россию. А кто есть кто, в этом пусть разбирается мистер Берия… На сегодня все свободны. До завтра.
* * *Из динамиков льется мелодия «Катюши». Как только музыка умолкает, раздается не по-русски картавый голос:
– Объявляется общее построение. Сегодня весь личный состав лагеря будет разбит на команды, каждая из которых получит наряд на работу. Вы знаете, что большинство английских мужчин сражается против нашего общего врага, поэтому нам нужна ваша помощь. Найдется дело и для женщин.
На большой зеленой лужайке, превращенной в плац – невообразимая толкотня и беготня. Одни строились по росту, другие по алфавиту, третьи по сроку пребывания в лагере. Наконец после энергичного вмешательства охраны образовалось какое-то подобие строя.
Распахнулась дверь, и в сопровождении офицеров появился майор Локридж. Удовлетворенно улыбаясь, он двинулся вдоль шеренги: люди вымыты, выбриты, причесаны, добротно одеты. И вдруг Локридж споткнулся и чуть не грохнулся наземь! Он остановился и в ужасе выпучил глаза!
На левом фланге, четко равняясь направо, замерла шеренга людей, одетых в одни кальсоны. Чуть дальше стояли женщины – без юбок. И те, и другие держались невозмутимо, лишь штанины кальсон и полы нижних рубашек полоскались на ветру.
– Что за маскарад?! – потеряв самообладание, сорвался на крик майор. – Кто позволил?!
– Разрешите доложить, – шагнул вперед уже знакомый ему седой человек. – Гвардии подполковник Ковров, – представился он. – Сожалею, что слишком поздно разгадали ваш маневр с мытьем и переодеванием, поэтому иного выхода, – приподнял он кальсоны, – у нас не было. Уничтожив нашу одежду, вы хотели уравнять нас с теми, кто, надев немецкую форму, стал врагом русского народа. Мы этого не допустим! Уж если мы не пошли на это в немецких концлагерях, где за отказ надеть форму расстреливали на месте, то тем более не пойдем на это в гостях у союзников.
– Вы… вы сошли с ума! Для нас вы все равны. Пусть с вами разбираются советские власти!
– Именно поэтому мы просим вернуть нашу одежду. В концлагерях характеристик не выдавали: кто-то боролся с немцами даже там, кто-то послушно работал, а кто-то и воевал на их стороне. Эти, – кивнул он на правый фланг, – постараются затеряться среди честных людей. Как мы докажем, что мы – не они? Иного доказательства, кроме одежды, у нас нет. Поэтому, чтобы отличаться от врагов народа, мы сняли штаны и, понимая, что поставили вас в затруднительное положение, написали официальный протест. Вот, просим передать его вышестоящему начальству, – протянул он вчетверо сложенный лист. – В письме – законное требование вернуть гражданскую одежду. Если оно не будет удовлетворено до первого сентября, мы будем считать себя вправе защищаться от холода теми средствами, которые сочтем нужными.
Майор Локридж взял письмо, скрипнул зубами, но, сдержавшись, изобразил некое подобие улыбки. Он махнул рукой, разрешая всем разойтись.
Ворвавшись в свой кабинет, Локридж схватил телефонную трубку, однако, набрав несколько цифр, задумался и положил трубку на рычаг.
– Обойдемся своими силами! – процедил он и вызвал лейтенанта. – Смит, – барабаня по столу, начал майор, – всем, кто без юбок и штанов, снизить рацион. В конце концов, они едят английский хлеб, а его и британцам-то не хватает.
* * *Раннее дождливое утро. Майор Локридж вошел в кабинет и сорвал листок календаря.
На календаре – 1 сентября.
– Что бунтовщики? – спросил майор у Смита.
– Все то же, – пожал плечами Смит. – Сидят в палатках и поют.
– Пою-ют?! – изумился Локридж. – И о чем же они поют?
– Я не все понял, что-то про мороз.
– Про мороз? Про Санта-Клауса?.. Не рановато ли? Пойдемте-ка послушаем!
Накинув плащи, офицеры вышли под дождь и, обходя лужи, двинулись к палаткам. Низкое серое небо. Нудно барабанил дождь. Слышались хрупкие, переливчатые звуки балалайки и тихий хор, выводящий без слов берущую за душу мелодию.
Осторожно откинув полог, Смит и Локридж вошли в палатку. Их никто не заметил. Сгрудившись у самодельной печурки, люди пели – пели, не разжимая губ. Молоденький балалаечник, зажмурив глаза и уносясь в известные одному ему дали, туда, где стыло замер Енисей, а от колодца, будто белая лебедь, в снегах плыла девушка с коромыслом на плече, выводил широкую и плавную мелодию. На диво слаженный хор басовито, но очень мягко, не перекрывая серебряного звука струны, вторил этой мелодии. Вот балалаечник вскинул руку, мотив на полувздохе оборвался – хор, как бы споткнувшись, замер. Но в то же мгновенье балалаечник распахнул еще наполненные домашней синевой глаза, коротко кивнул, и хор снова повел тот же напев, но теперь – со словами. Те звучали едва-едва, шелестяще, просяще робко.
– Ой, мороз, моро-оз, – ломко вел чистый, хрустальный тенор.
– Не моро-озь меня-я, – подставил плечо мягкий, бархатистый бас.
– Не моро-озь меня-я, моего-о коня-я….
Балалаечник завершил куплет замысловатым тремоло и снова кивнул.
– Моего коня-я, белогривого-о, – пророкотали стриженые наголо баритоны.
– У меня жен-на-а, ох, ревнива-я-я! – ликующе сплелись и баритоны, и басы, и теноры.
А потом, словно изумившись этому открытию, хор замер, освободив место укорюще-нежному сопрано и подпирающему его восторженному тенору:
У меня жена-а
Ох, красавица-а,
Ждет меня домо-ой,
Ждет печалитс-я.
И вдруг, словно студено-бодрящий сибирский ветер сорвал с места палатку, – весь хор – хор, состоящий из людей, многие годы оторванных от дома, перенесших все мыслимые и немыслимые муки, но оставшихся верными своей земле, грянул с неведомой англичанам удалью:
Я верну-сь домо-ой
На закате дня-я,
Обниму жену-у,
Напою коня-я.
На доверчивом шепоте замерла струна. Кто-то всхлипнул. Кто-то зарыдал. А подполковник Ковров коротко бросил:
– Ну, вот… Как будто дома побывали.
Англичане, так и не замеченные увлеченными песней людьми, выскользнули из палатки.
– Хорошая песня… – отряхиваясь у входа в комендатуру, глубокомысленно заметил Локридж. – Лошадей я тоже люблю. И жена у меня ревнивая. Не такая уж красавица, но ревнивая. А у вас?
– Я не женат, – почему-то смутился Смит.
– Ладно. Успеете. Песни песнями, а теперь – общее построение! Хор должен стоять в полагающейся всем одежде. Готовность, – посмотрел он на часы, – через пятнадцать минут.
Ровно через четверть часа майор вышел из кабинета. На превратившейся в большую лужу лужайке топтались промокшие до костей бывшие русские пленные. Когда Локридж увидел, что некоторые из них в штанах и юбках, на его лице заиграла победоносная улыбка.
– Давно бы так, – на ходу бросил он.
– Наши требования остаются в силе, – шагнул вперед подполковник Ковров. – Чтобы уменьшить риск простуды, мы решили, что женщины могут надеть юбки, а брюки – только больные мужчины. Таким образом, полностью одетых в вашу форму – сто человек, остальные четыреста пятьдесят будут стоять до конца.
– До конца-а?! До какого конца?! – вспылил Локридж. – Не забывайте, где вы находитесь! Здесь хозяин я, а не уцелевшие большевистские агитаторы. Смит! – рявкнул он. – Одетых – в барак! А палатки бесштанных – снести!
Лейтенант Смит отшатнулся.
– Вы слышали приказ? – побагровел Локридж. – Снести все до единой! А бунтовщиков – на хлеб и воду!
Через полчаса приказ был выполнен. Дождь заметно усилился, теперь он лил как из ведра. А четыреста пятьдесят русских, прижавшись к стене барака, сидели прямо на земле. Локридж понял, что своими силами ему не справиться, и позвонил командующему военным округом.
Генерал внимательно выслушал и тут же связался с Военным министерством:
– Несмотря на непогоду русские военнопленные не проявляют никакого намерения пойти на уступки, – докладывал он. – Возможен взрыв массового неподчинения. Жесткий режим не оказывает никакого воздействия. Видимо, они настолько закалились в немецких концлагерях, что мы едва ли сможем их сломить. Они настаивают на приезде кого-нибудь из советского посольства.