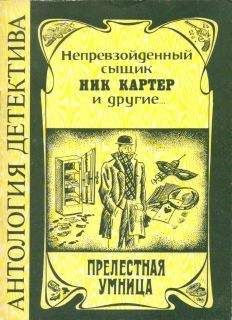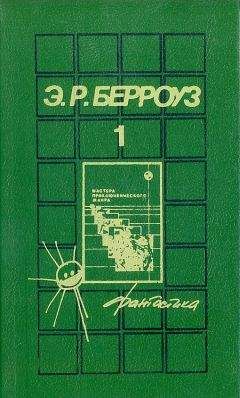Анатолий Афанасьев - Гражданин тьмы
— Владимир Евсеевич, вы тоже подписали с ним контракт.
Реакция была мгновенной и резкой.
— Ты со мной не равняйся, шалава. Я деньги у всех беру, в том числе и у этого подонка. Важно, не кто дает, а куда они идут. Пойди у народа спроси, кто есть кто. Народ тебе ответит. Постыдилась бы сравнивать, засранка!
Самое удивительное, он говорил искренне, проникновенно. Или это великий актер, или… Но я тоже не лыком шита.
— Я докажу, Владимир Евсеевич.
— Что докажешь?
— Свою преданность докажу.
— Каким же образом?
— У меня на Ганюшкина сведения есть. Жизнью рискну, а вам предоставлю. Только не гоните.
Вождь задумался, машинально передал рюмку, и я ее заново наполнила.
— Это интересно, коли не брешешь. Что же за сведения такие?
Я импровизировала, потому выдала несусветное:
— Все думают, он народный заступник, олигарх, а на самом деле он обыкновенный гермофродит. У него яйца отрезанные.
— Врешь?! — в изумлении вождь выкатил глаза и стал еще больше похож на тюленя. — Как отрезанные? Откуда знаешь?
— Сама видела. Правда, на фотке. Он с девочками не спит. Громяка проглотил бурбон, глаза подернулись желтизной, заискрились.
— Коли не врешь, премию получишь. В сущности, это меняет политическую карту России. Даже если врешь, хорошо. Зачем нам гермафродит? Гермафродит нам не нужен. У нас не Америка. Нам подавай нормального бисексуала, с деревянным колом. На педиков мода уходит. А кто, говоришь, ему яйца отрезал?
— Вроде от природы такой. Гомункул. Но есть другая версия. Яйца турки оторвали, с которыми хороводится.
— Конкретно этих турков знаешь?
— Откуда, Владимир Евсеевич? Когда случилось, я еще в горшочек писала. Я же молоденькая.
— Фотку сможешь достать?
— Попробую… Для вас, Владимир Евсеевич, жизни не пожалею. Но люди, у которых пленка, очень опасные. И цену, конечно, запросят ломовую.
— Ну-ка, плесни еще.
Ох, зачастил вождь, не к добру это. Налила, не жалко. Громяка задумчиво выпил.
— За ценой не постоим, стоит того Какая все-таки грязь! Вот они, Надюха, наши демократы хреновы, американосы вонючие. Яйца оторватые, туда же, лезут землю делить. Ничего, мы им скоро ручки укоротим. Какая бомба, Надя, какая бомба! Да коли получится, озолочу. Первой советчицей будешь. В свиту включу. Фавориткой сделаю.
— Ой! — смутилась я. — Как же Оленька? Неловко как-то.
— Об ей не думай, вчерашний день. Раз на откровенность пошло, скажу тебе так. Иванцову давно пора осадить. Вознеслась чересчур. Норов кажет. С вороньем пугается. Духовности ей не хватает, вот в чем беда. И тельцем ты вроде посвежее.
Что дальше было, описывать подробно не стану. Но до конца не сдюжила, совершила ошибку, которую не поправишь. И виноват во всем секретный агент, его присутствие во мне. Так хорошо все складывалось, так удачно придумала с гермафродитом… Забалдевший Громяка, я чувствовала, оттаял, потянулся наконец на манок. Хлопнул в ладоши — и в спальню влетели две обезъяны, точно такие как сидели на балконе. Но без автоматов, зато растелещенные, в одних плавках. Я сразу поняла, к чему идет. Схема известная. Громяка важно разъяснил, налив себе бурбона уже в стакан.
— Так положено, Надюха. Сперва ребятки пену снимут после я приступлю. Возражать не станешь, надеюсь?
— Как вам угодно, — пискнула я.
Да и что возражать, обычная работа, рутина, не такое проходили. Все стерпела без надлома: сопение обезьян, их яростное внедрение, немотивированную грубость (как же без капельки садизма?), но потом, когда Громяка выставил помощников за дверь, и сам навалился тюленьей тушей, жалобно похрюкивая, сплоховала. Захохотала как полоумная.
— Ты чего? — не понял Громяка. — Щекотно, что ли? Багровая рожа нависла низко — и на ней выпятилась сизая губа с капелькой бурбона. Я подняла голову, дотянулась и прокусила резиновый ошметок насквозь.
9. БУНТ
На другой день, прямо из дома привезли на правеж к Ганюшкину. Куда, не знаю. Везли в закрытом фургоне, голову чем-то замотали. Похоже, какой-то офис. Обычный кабинет с казенной обстановкой, не слишком богатой. Примерно такой же, как у меня в «Купидоне». Сначала со мной беседовал невесть откуда взявшийся Дилавер. Цокал языком, стыдил, укорял — я его почти не слушала. Во мне еще с ночи, когда побитую привезли домой и выкинули возле подъезда, укрепилось стойкое ощущение близкого исхода. Под стенания и всхлипывания мамочки я выпила грамм триста коньяку — и теперь не испытывала ничего, кроме кошачьей ярости. Именно кошачьей, потому что так ощеривается кошка, окруженная лающими псами.
— Ая-яй, какой непослушный, плохой госпожа! — крутил башкой турок, — Зачем все испортил? Себе испортил, людям испортил. Чего не хватало? Счет шел, деньги шел, живи радуйся. Стихи читал вслух. Душа нежный, как у розы. Зачем укусил губу человеку? Он тебе ничего плохого не делал.
— Заткнись!
Мне было так скверно, что и ругаться не хотелось. Боялась, что подохну и не увижу секретного агента, не сумею объяснить ему что-то очень важное для нас обоих.
— Хочешь сказать, меня не любишь? Тоже губу укусишь?
— Вообще все откушу, только сунься. Вонючка кривоногая.
— Ая-яй, какой стал вредный госпожа! Чужие слова говоришь, не свои слова. Зачем дразнить Дилавера. Дилавер тебя любит? Он любит чистый девочка, а не с дерьмом в башке.
Еще пришел господин в белом халате, по-видимому врач. Проверил давление, осмотрел ушибы. Хотел сделать укол тазепама, но я послала его так далеко, что он, бедняжка, выронил шприц.
Потом пожаловал сам Ганюшкин. В этот раз, подавленная но не сломленная, я с особой остротой ощутила, что этот человек несет в себе еще больше воплощений, чем Мосол. От того, кого я помнила по первой встрече, не осталось ничего, кроме подвижного носяры и тусклого, демонического блеска глаз. Цвет лица переменился со свекольного на благородно-синеватый, улыбка «добрая», как у коршуна, и движения плавные, завораживающие. Я вспомнила, что от кого-то слышала (возможно, от Ольги), что в прежние времена, до рынка, у него имя было другое, звали его Герник Самсонович, и работал он завкафедрой в секретном институте. Но также общеизвестно, что нынешний великий магнат при коммунистах томился за колючей проволокой вместе с писателем Курицыным и имел уважительную кличку Бухгалтер. Доктора он шуганул, а турок Дилавер как сидел, так и остался сидеть в кресле, все так же сокрушенно покачивая сияющей лысиной, разбрасывающей по кабинету солнечные зайчики.
— Что же ты натворила, непутевая? — ласково, как к сиротке, обратился ко мне Гай Карлович. — Испортила песню, дурашка. Какая карьера открывалась, с неба прямо в Руки золотой шар упал, и что в итоге? В итоге имеем разбитую мечту и горькие слезки. Надо тебе это было?
— Госпожа надсмеялась над чувством абрека, — трагически пожаловался Дилавер. — Не оценила бескорыстный лубовь.
Я потянулась в кресле, проверяя, слушаются ли руки ноги. Прибежавшие на крик опричники Громяки все же качественно меня отметелили и забили бы насмерть, если бы он не остановил. Почему остановил, не знаю.
— Чего молчишь, сказать нечего?
— Я старалась, но всему есть предел. Ваш Громяка садист и извращенец.
— Ах вот оно что! — Гай Карлович насмешливо сощурился, повел носярой в сторону турка. — Приятно вас удивлю, господин Дилавер. Наши московские шлюшки все исключительно голубых кровей и занимаются сексом по-благородному, как тургеневские барышни. Таков непреложный факт.
— Стихи вслух читали, — заунывно протянул турок, холящийся, похоже, в затяжном трансе.
— Хорошо, — вернулся ко мне Ганюшкин. — Допустим, я уважаю ваше редкостное целомудрие, барышня, но зачем вы изуродовали лидера партии? У него теперь заячья губа образовалась. Конечно, это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
— Я тоже спрашивал, — поддакнул турок. — Госпожа не хочет отвечать.
— Погорячилась, — признала я. — Но не жалею. Хоть кто-то наказал эту тварь за ее мерзкие штучки.
— Наказал, да, — согласился Ганюшкин. — И тебя накажут, дитя мое. Каждому, как говорится, будет воздано по заслугам… Но уж чего совсем не пойму, кто тебя надоумил про гермафродита? Представляете, господин Дилавер, эта дамочка распространяет слухи, что вы со своими побратимами лишили меня наиважнейшей части мужского естества. Каково?
Изумились мы оба с турком, но по-разному. Я лишь подумала: откуда он узнал, вроде были с Громякой одни? Значит, прослушка. Дилавер, напротив, выказал возмущение театрально, как подобает восточному человеку. Выкатил зенки, засопел и трижды хлопнул себя по ляжкам.
— Бай, вай, вай! Слышу и не верю. Какой грязный шутка для такой прелестной головки! Может быть, сошла с ума, господин Ганюшка?
— Пока нет, — успокоил Гай Карлович. — Что же, прелесть моя, сама придумала или кто-то подсказал?