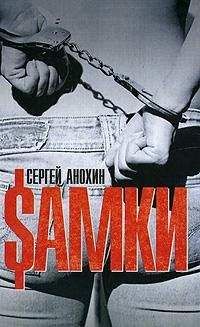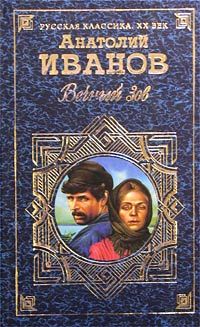Сергей Анохин - Самки
Маша любила жизнь. Ту, что есть сейчас. Она тянулась к будущему. Но была равнодушна к прошлому, ничего в нем не жалела и памяти особой ни о чем не хранила. Поэтому, узнав, что Эдик теперь не журналист-аналитик, а практик нового русского корпоративизма, не заместитель самого главного редактора самого крупного российского издания, а просто Отвертка, и что сама Мария теперь станет еще и Марей – она, в отличие от других старых знакомых Эдика, нисколько не шокировалась.
Важно, что с ней был он. Что они были вместе. «Столько лет… Столько лет… Прости, я сейчас закричу». Она не знала точно, были ли это мысли про себя либо вслух.
– Ты правда дружишь с бандитами? – лишь негромко спросила она, чуть расширив вылупленные глаза.
– Да. Но не надо нас так называть.
– Не буду, – пообещала новонареченная Маря и побежала на кухню, где в проржавевшей кастрюле булькал кипяток для чая.
Эдик остался в углу на лежаке. Его не огорчало отсутствие в единственной комнате кровати, дивана, кресла, стола или хотя бы двух-трех стульев. Он точно знал – скоро все будет иначе. Эта комната преобразится не столько в мебели, сколько в самом главном. В ауре, в токах воздуха, в духе тех, кто здесь живет, в глубинном строе их жизни. Как бывает со всеми, кого захватывает и взметает вправо-вперед-вверх магнетическая мощь коллектива.
Тяжело было от другого – Маша была настолько худа, что приходилось упорно смотреть только на ее поразительное лучистое лицо, с которого все эти часы не сходила улыбка безумного счастья.
– Ангел из дымки туманной… – тихо и безотчетно проговорил он, вытягиваясь на лежаке.
– Чего-чего? – напряглась вбежавшая Маша.
Будь на ее месте кто угодно, Эдик бы промолчал. Но за эти часы он откуда-то узнал: она поймет все.
Ангел из дымки туманной…
– Я за больной.
– За которой?
– Я за детдомовской Анной.
– И что? – Маша заговорщицки нагнулась к Эдику, ловко удерживая чашки.
– Давай никогда не будем тебя Анной называть.
– И давай не будем. Я же Маря!
– Но есть проблема. Ты очень худая Маря.
– Так поправим, милый. Месяц, два – и я превращусь в хомяка!
Она быстро на аккуратно поставила чашки. В руки ей откуда-то залетела синеватая тряпица.
– Тебе должны нравиться женщины в косынках!
– Ага! А еще…
– А еще интересно, когда я без носков! Я ведь уже заметила! Вот так!
Она стянула с себя домашние брюки вместе с носками и кувырнулась на Эдика. Тот неловко подхватил ее, сминая белье на лежаке.
Проснулись одновременно, часа через три, в глухой тьме, всегда так заряжавшей Эдика.
– Маря, ты наша. Ты встаешь на нашу дорогу. Давай решать, как мы будем жить.
«Пусть она решит быть с нами… Упаси меня от стремления направлять дела каждого… Но пусть она так решит!..»
– Я твоя, а не ваша, – закуривая, сказала Маша. – А дорога – значит, дорога.
– Маречка, так у нас не бывает.
– У вас так не бывает? У нас так не бывает… У нас… Ладно. Ваша. Но только потому, что твоя.
– Маря… Не могу объяснить, почему я так думаю… Но… Мы сделаны друг для друга, Маря!..
– Ты не можешь, а я все понимаю. Да. Друг для друга. А если бывает прошлая жизнь, то в ней мы были братом и сестрой. Как-то вдруг это стало ясно. Но и сама не пойму, как так вышло, что узналась только сегодня.
Отвертка молчал. В глубине души он верил в чудеса – не верил только, что чудо придет к нему. И теперь не знал, кого и как за это благодарить.
– А кто вы? – вдруг спросила Маря, весело взглянув в глаза Эдику. – Как вы называетесь?
Он ждал этого вопроса. И ответил. Медленно, но четко:
– Аварийщики.
Маря снова вылупила глазки:
– Ну-у?.. Аварийщики… Даже я слышала. Читала недавно. «Беспредел на дорогах»! – Она на мгновение осеклась, но продолжила в темпе скороговорки: – Однако ведь там…
– Да, – твердо сказал Эдик.
– И то, что пишут?..
– В общем, правда, Маря. Это и есть мое подразделение. Все это делаем мы.
Он напряженно ждал.
– Может быть, – после долгого молчания сказала она, – если дело правильное, оно того стоит. Я к этому пока не привыкла, но верю тебе, что и так надо.
– Верю… Вера… Верность! Вот что главное, Маря. У нас – так.
Они обнялись снова.
– Маря, но почему мы не были так в универе? Не любили друг друга?
– Не знаю, милый. Может, любили уже? Не знали только. Иначе не случилось бы сегодня. Я живу с этого дня потому, что появился ты.
– Может, и я потому, что ты?
– Может.
– Но обидно, что время потеряли. Ты прикинь, сколько бы мы навертели.
– А ты прикинь, сколько теперь навертим!
Эдик поражался себе, насколько ему легко говорить о таком. Как никогда. Нигде. Ни с кем.
– Маря, я тоже твой. Наш – и значит, твой… А у тебя хороший дом…
– Да? Ага!
– Это незасвеченная хаза. Здесь можно кое-что складировать.
– А зачем здесь что-то складировать?
– Надо, Маря. Потом поймешь. Послезавтра с утра я завезу сюда незарегистрированный ствол, два левых автономера… Скоро ты познакомишься с нашими. Предупреждаю: не все тебе сразу понравятся… Ладно, потом я еще расскажу, да, впрочем, сама увидишь… Ты не против?
– Я – за. Потом. А сейчас… – Она сунула руку под укрывавшую Эдика простыню.
– Маречка, через минуту.
Он протянул руку к брошенной на пол рубашке, вытащил из нагрудного кармана пачку купюр, не считая – все равно больше с собой не было, – положил на подоконник.
– Доживешь до завтра?
– Это как проститутке за визит? – хихикнула Маша.
– Ну зачем так? Мы же теперь семья. Ты наша. Ты моя сестра.
– Я твоя…
Через полчаса они молча лежали, крепко вжавшись друг в друга. Еще через десять минут Эдик наконец решился спросить, как дела. Маша очень не хотела рассказывать, но Отвертка очень хотел знать.
* * *
Талантливый и перспективный программист Саша оказался обычным наркоманом. Когда они поженились, он еще был в так называемой «розовой» стадии, и ему казалось, что он открыл чудесную вещь. Одна доза полностью меняла окружающий мир, все проблемы решались сами собой. Он был лучше всех, и ему было лучше всех. А главное, он был уверен, что полностью контролирует ситуацию: хочет – колется, хочет – нет. Вот пройдет защита, закончатся волнения, предложат работу в Силиконовой долине (в этом у него сомнений не было), тогда сразу и завяжет. Но защита прошла, а колоться хотелось снова и снова, тем более что в светлый силиконовый рай почему-то никто не звал.
На все Машины попытки не то что объяснить, чем это может закончиться, а просто поговорить, Саша лишь пожимал плечами: «Ты просто не въезжаешь, я сильнее героина, могу бросить в любой момент». Но после первой попытки бросить, естественно, была ломка, и Саша навсегда забыл о своей «силе».
Ну а дальше – сплошная классика. Сначала возросла доза, потом началась хроническая нехватка денег, поскольку обиженный на весь мир Саша, разумеется, посчитал ниже своего достоинства работать в вычислительном центре и тем более «гнуть спину на малограмотного коммерса», а даже самые большие Машины гонорары за статьи не покрывали увеличивающихся запросов.
Уходить? Даже не попытавшись ему ничем помочь? Не для Маши. Даже если б она не любила его – а она любила – не смогла бы оставить. Даже понимая, что он фактически уже умер. Даже зная, что, оставаясь с ним, она разрушает и свою жизнь, и так уже превратившуюся для нее в нескончаемый и безрезультатный ряд попыток спасти любимого. Или нет: через несколько лет уже не любимого, а совершенно чужого человека, с которым делила только крышу. Ведь для него мир сузился до схемы: «поставиться – найти денег – поставиться». Ему никто не был нужен, он никому не доверял, ради денег готов был обманывать, предавать, убивать. Единственное, чего боялся, – это остаться без дозы. Наркотики называл «хлебом». И если раньше сообщение о смерти знакомого от передозировки вызывало чувство страха, то теперь с завистью говорил: «И где это он такой порох достал? Мне б такого».
И наконец, тоже достал. Вчера.
* * *
А потом наступили странные, ни на что не похожие дни и ночи.
Каждый вечер он звонил ей еще из машины и уже через неделю перестал удивляться, увидев на темной клетке настежь распахнутую дверь. Маша в длинной домашней футболке стояла на пороге, освещая лестницу своей лучистой улыбкой. Непослушные русые волосы перевязаны зеленой лентой, руки протянуты вперед.
И каждый вечер Эдик опускался перед ней на ковер. Губы касались ее колен, медленно скользили вниз, к обнаженным стопам. Накрывал голову футболкой, сквозь ткань ощущал ее руки, гладящие нечесаные волосы.
– Маречка, ты не худеешь?
– Ну что ты, милый! Смотри, какой у меня барабанчик, прямо беременная! Во как отожралась!
– Маря, маленькая-худенькая…
Он не узнавал себя здесь, и даже боялся этого состояния, но его безумно тянуло к таким первым минутам, когда приходилось закрывать глаза, чтобы не огорчать ее своими непросохшими ресницами. Как только он ее видел наедине, как-то заостряло, стачивало внутри.