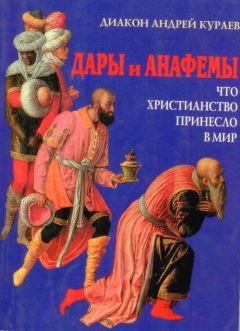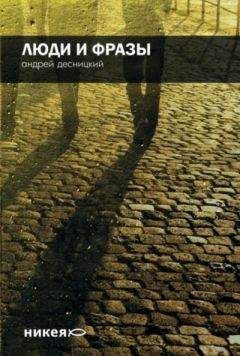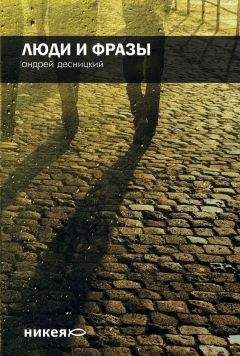Елена Крюкова - Красная луна
Ты? Ты — мне — поможешь? Что ты мелешь?
Еще раз скажешь «мелешь» — я…
Он не успел схватить ее за запястье. Она с быстротой бегущей по стволу белки сунула руку ему в карман, выхватила револьвер и сейчас стояла с револьвером в руке, наставляя на него дуло. Она смеялась. «До чего отборные, белоснежные зубы», - зло подумал он.
Я знаю приемы. Я нападу первым. Ты не успеешь выстрелить.
Она не шевельнулась. Ее губы смеялись. Ее зубы блестели. Револьвер в руке не дрожал.
Попробуй!
Он сделал выпад, но она опередила его. Повернувшись к нему спиной, она молниеносно наклонилась, подняла ногу и крепко, мощно ударила его пяткой в скулу. Потом, коротко и резко выдохнув: «Я-ах!» — отбежала на два шага, оттолкнулась ногой от каменного пола и высоко подпрыгнула, и обхватила Хайдера руками и ногами, сидя на нем верхом, как росомаха на таежной ели. Дуло уперлось Хайдеру в висок. Он попытался сбросить женщину с себя. Еще движенье, быстрое как молния — и ее пальцы с силой нажали две болевых точки на его затылке, на шее. Он взвыл. Он спрыгнула с него. Кинула на пол револьвер; он откатился вбок, к стене.
Где ты училась кунг-фу?
Он смотрел на нее как на диковину. На говорящего павлина. На лошадь с золотой шкурой.
Нигде.
А точнее?
Он наступил ногой на револьвер. Ногой подтянул его к себе. Наклонился, поднял. Повертел в руках.
Я же сказала тебе, я врач. Я должна все знать. И кунг-фу тоже.
Ты лечишь бойцов кунг-фу?
Бывает, и их.
Ты хочешь… лечить меня? Я не нуждаюсь во враче. Я здоров.
Она, стуча каблуками по каменным плитам, подошла к нему вплотную. Стала рядом, лицо в лицо, обдавая его горячим, возбужденным дыханием. Ее возбуждение передалось ему — она слышала, как часто, беспокойно он задышал.
Да, Сулла. Да, Калигула. Да, Нерон. Да, Иоанн Грозный. Да, майн Фюрер, ты здоров. Как бык. Как волк. Ты болен только одним. У тебя нет пока этой страны. Этой страны, что должна лечь к твоим ногам, чтобы ты, как всякий другой тиран и диктатор, мог делать с ней все что хочешь. Но я помогу тебе, мой Чингисхан. Я довольно много понимаю в этой науке.
Она положила ему обе руки на грудь. Слушала ладонями, как бурно, тяжело бьется его сердце.
Он взял ее руки в свои. Крепко, больно сжал. Потом прижал всю ее к себе, ощутив всем собой жар, под вечерним открытым платьем, ее цветущего роскошного, пахнущего яблоней тела.
Чем? — спросил он ее губы в губы. Она провела кончиком языка по его крепким, чуть вывернутым кнаружи губам. Он сильнее притиснул ее к себе. — Чем ты поможешь мне?
Она наконец раскрыла губы. И он вошел в ее губы ртом, языком, зубами, всем собой, вбирая, пронзая, всасывая, вглатывая ее в себя, как волк пожирает и глотает добычу.
Когда он оторвался от нее, тусклая лампа над дверью насмешливо мигнула им раз, другой.
Я уберу всех, кто будет мешать тебе, с твоего пути.
Пока он шел домой, он выкурил пачку сигарет.
Он решил пройтись от Бункера до дома пешком.
Ночные улицы любимого города располагали к размышлению. Слишком много сегодня произошло. Он решился на Хрустальную ночь. Ждать более было невозможно. Даже романтик Деготь стал обвинять его в бесхребетности и осторожничанье. А Баскаков — тот просто посылал его на все буквы. Соратники! Друзья! У него нет друзей. Нет и соратников. То, что он задумал, он сделал все сам. И всю подготовку пяти последних лет, когда приходилось уходить в такое глубокое подполье, которое и не снилось всем на свете движениям прежних времен, тоже продумал и осуществил он. Он разыскивал людей. Он сплачивал несоединимых. Он прекращал распри и ссоры. Он распределял обязанности и отдавал приказы. Он находил деньги на их великие дела, в конце концов. Немаленькие деньги!
И это по его, по его приказу в огромные группировки бритоголовых организовывалась слепая, тычущаяся юными щенячьими носами то туда, то сюда, бродящая бешеными соками молодежь юродивой страны.
Россия — юродивая?! Да, Россия — юродивая. А юродивым, чтобы они прозрели, надо выколоть глаза. Юродивым, чтобы они услышали, надо отрезать уши. Беда в том, что юродивые слышат не ушами, глядят не глазами и говорят не языком. У юродивых все происходит внутри них. У них внутреннее зрение и внутренний слух. Россия видит и слышит все — а сделать, умалишенная, ничего не может, ибо юродивые — бездельники. Им бы в мешке по дорогам слоняться, лицо к небу закидывать, срамные песни распевать.
Пространство и время надо перекроить. Если переделка мира уже осуществлена давным-давно — надо перекраивать старую ветошь, юродскую мешковину. И шить из нее, разорванной в клочья, кольчугу героя. Россия истосковалась по Герою. Она ждет Героя, молится Герою: приди! Как долго тебя не было! А ведь была война, и на войне — были герои. И все полегли. Спят курганы темные… Кровь и тело. Тело и кровь. Его любимый Fuhrer Адольф так и говорил: Boden und Blut, Blut und Boden. Давал же христианский Бог вкушать своим ученикам и всем, молящимся Ему, свое тело и свою кровь! Символ — мощное оружие. Знак — оружие колоссальной силы. Под знаком шестилучевого сапфира Соломона воевал Израиль. Под знаком креста века напролет воевали рыцари-крестоносцы. Под знаком пятиконечной красной звезды воевала, рожая героев одного за другим, его обращенная в большевизм страна, и в морях пролитой крови, цвета той звезды на тех буденновках и касках, рождалась и умирала эпоха. Под священным знаком «суувастик»…
Свастика. Коловрат. Коловрат над миром, священный коловрат. Сакральный Кельтский Крест. Не врет ли он, Хайдер, сам себе, вырвав из черного небытия Кельтский Крест и даря его России? Что морду воротишь, Россия?! Боишься?! Счастья своего не понимаешь, не видишь?!
Откуда ей видеть. Слепая. Юродивая.
А он сам — не юродивый?
Еще сигарету. Кончились! Ночной киоск. Горит в ночи, как горсть рубинов и сапфиров. По-новогоднему украшен. Зима, зима. Хрустальная ночь должна быть зимой. Все великие кровавые ночи должны были быть зимой. Ибо на снегу, на хрусталях и алмазах, ярче всего горит свежая соленая кровь.
Он достаточно изучил опыт тиранов истории. Но он — выкормыш абсолютно иной эпохи. Сейчас России не нужны ни цари, ни короли, ни князья, ни олигархи, ни коммунисты, ни демократы. России нужна железная рука тирана. Железная пята тирана. Но тирана не простого. Не параноика Сталина. Не сумасшедшего Нерона. Не наслажденца Ивана Грозного. Не дьявола-Петра с вытаращенными в гневе на жизнь зенками и поголовным бритьем боярских бород. А тирана образованного. Весьма образованного. И очень умного. Страшно умного. Почти — гениального. Самого — гениального на свете?
Только гений перевернет тебя, Россия. В очередной раз? В последний — раз.
После его правления — хоть потоп.
Мы и так живем внутри Потопа. Внутри Апокалипсиса. Это враки, что Апокалипсис обрушится, как черный водопад. Апокалипсис растянется на столетия. Ему важно вырвать Россию за волосы из ее юродского болота. Впрочем, юродивые ведь пророки? Пророки или нет?!
Пачку «Петра Первого», черные, крепкие. Спасибо. Сдачи не надо.
Он всегда курил только русские сигареты.
Да-а, что за баба сегодня притащилась к ним в Бункер! Классная баба. Загадочная баба. То-то Архипка так надолго провалился. Она с Косовым спала, это точно. Зачем она так жестоко-точно прочитала все, что творится в его душе? Она маг? Она чтица мыслей на расстоянии? Она говорит, что она врач. Поверим на слово. В каморке в Бункере у них ничего не было, хотя он слишком хотел ее. Так хотел, что галифе чуть не порвались. А она смеялась над ним. Ему понравилась ее жестокость. Он бы хотел, чтобы у него была такая подруга. Такая — жена?
Жена. Проклятье. О чем он думает перед Хрустальной ночью! О женитьбе!
Лучше подумай об оружии, вождь.
Из Германии ему тайно переправили много оружия. Оно — на тайных складах под Москвой. Он расплачивался за него разнообразными деньгами.
Жаль, что ему до сих пор не удалось оплатить хоть часть расходов деньгами этого… этого…
Он остановился под ночным, лилово горящим фонарем, чтобы прикурить от бьющегося на ветру огня зажигалки. Легкая метель стреляла острыми снеговыми иглами ему в склоненное над огнем лицо. Дым наполнил грудь. Он закрыл глаза и пошел вперед не глядя, с закрытыми глазами. Его черные сапоги впечатывались в чисто-белый, за ночь наметенный снег: ать-два, ать-два.
А отец? Что говорит ему отец? Отец же не выдаст его властям. Отец любит его. Старый лагерник Хатов знает, что делает его сын, но он уважает его дело. Или не уважает? Или — боится? Боится, что, если шевельнется, сын пристрелит отца, как собаку, как гадкую лагерную собаку овчарку?
Старый Анатолий Хатов, старый иркутянин, чахоточно-впалые щеки, впалая грудь, чуть раскосо прорезанные глаза, изработанные, почернелые руки, пальцы желтые, пропахшие табаком. Страна вдоволь покуражилась над тобой, твоими руками копая уран и валя сибирский лес. Ты возил сына туда, в Маклаково на Енисее. Чтобы показать ему свой лагерь. Свой дом, свой черный барак. Дом дорог любой, даже тот, где тебя бьют и где ты спишь на нарах. Мальчишка таращился на старые, побитые снегами и дождями вышки, на так и не убранную колючую проволоку, ничего не понимал. «Видишь, этот лагерь мертвый, — шептал ему отец, — он уже мертвый, он не оживет. Здесь перековывали людей, понимаешь?.. Перековывали — меня… как мечи — на орала…» Что такое орала, папа, спрашивал он, это когда сильно орут?.. Его отца посадили за то, что он когда-то в Иркутске организовал партию. Партию сопротивления режиму. В партии была одна молодежь. Кому они сопротивлялись? Кого хотели свергнуть с трона? Владыку? Сталина? «Мы хотели уничтожить того, кому вы теперь, дураки, поклоняетесь!» — грохотал отец в табачных, рьяных ночных, на кухне, спорах. Водка в бутылке убывала. Отец натужно, хрипло кашлял от табака. Отец, тебя не переспоришь, пойду-ка я спать, говорил он, зевал и шел спать. А отец оставался на кухне — курить, глядеть в черное окно, скрежетать зубами.