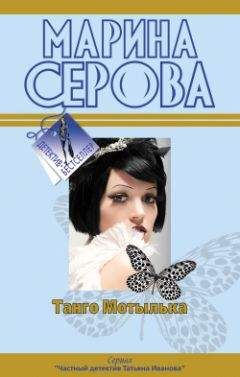Елена Крюкова - Аргентинское танго
А вечером шла в иокогамский порт, бродила вдоль молов, пирсов и причалов, глядела на океанские лайнеры, горделивые, белые, ширококрылые, пристававшие и отчаливавшие, призывно гудящие, дымящие гигантскими трубами, и ее глаза неосознанно, напряженно искали в туманной сизой морской дымке яхту. Его яхту. Яхту камикадзе. Быть может, она еще стояла здесь, привязанная к причалу мощной цепью, ее еще не отвязали, не конфисковали, не передали безутешной родне. Если родня не знала, кто он такой — а скорей всего, не подозревала, — то семье сообщили просто: погиб в авиакатастрофе. Только и всего.
Густо-синяя вода накатывала на гранит парапетов, на уходящие вдаль, в ночную ультрамариновую тьму, причальные пирсы, торчащие, как белые пальцы. Мария ловила ноздрями соленый морской ветер. Над головой шумели реликтовые, длинноиглые иокогамские сосны. Здесь, в Иокогаме, на море, в думах о погибшем летчике, Мария поняла, какая серьезная игра — жизнь. Серьезная? Но всего лишь игра. И надо суметь виртуозно сыграть ее. Роскошно станцевать. И если она сможет артистично обмануть тех, кто купил ее, присвоил, и сумеет забеременеть и родит, играючи, и сумеет выиграть у тех, у кого не выигрывал никто и никогда, — значит, она не зря будет жить на свете.
От кого ты хочешь забеременеть, Мария? От Ивана? От Кима? От Кима? От Ивана?
Отец и сын. Сын и отец.
Лицо Кима всплывало перед нею из тьмы. Она вздрагивала. Море перекатывало перед ней свое могучее соленое тело, вздрагивало синей нервной шкурой. Ким взял ее не насильно. Он взял ее потому, что она сама этого пожелала. В них течет одна кровь, в Киме и в Иване. Они оба любят ее. А она? Кого любит она?
На миг в ней промелькнула синей молнией мысль: «Я вернусь в Москву и убью Беера». Беер не снабдил ее оружием. Боялся. Ее отлично научили стрелять там, в Школе. Старый генерал сам ставил ей руку. Глазомер у нее был хороший. На учебной стрельбе она отличалась, выбивала двадцать очков из двадцати. Она попросит пистолет у Кима и придет к Бееру. «Врешь сама себе, ты не сможешь убить его, ты его не убьешь, а просто попугаешь. Ну и что? Он прикажет своим охранникам, и те придавят тебя, пугальщицу, как козявку». Она знала об одном: долго она у Беера не выдержит. Она сама себя убьет. Здесь, в Японии, отлично владеют этим искусством. Она пока не сможет сделать себе ни харакири, ни сеппуку. Но если ее обучат — сможет.
К черту харакири. К черту сеппуку. Под пронизывающим морским ночным ветром она просовывала руку под плащ, клала себе на живот. Прислушивалась. Тебе все равно, от кого ты забеременеешь, бойкая пиренейская коза?!
Как жаль, что бабушка умерла. У нее в Москве никого из родни не осталось. А ее дед? Кто был ее дед? Что, если ей найти ее деда? Отец сказал — его отец, если верить рассказам его матери, был молоденьким парнишкой, охранником в лагере на Соловках, и он охранял барак, где отбывала срок Мария-Фелисита Виторес вместе с другими заключенными, русскими и эстонками, белорусками и казашками, кореянками и украинками; вот одна испанка в этот интернационал затесалась, и парнишка-вохровец на нее клюнул, не вынес такой знойной, необычной красоты. Были ли они влюблены? Был ли это роман? Или парень просто изнасиловал красивую чернокосую зэчку? Или — просто купил за кусок хлеба, за ржаной кирпич, заманил в лес, на гору Секирку, и там, за чахлыми северными елями, в кустах, в колючем подлеске… на отсырелой, жухлой прошлогодней траве, на белых, как кости, камнях, врезающихся в плечи, в лопатки, в нагой крестец… Альваро сказал ей: «Я не знал отца. У матери не осталось его фотографий. Какие фотографии в лагере, Мария? Моя мать лишь говорила: я Фелисита, я счастливая, мне выпадет счастье, и мой сын мне его принесет. А ты — мое счастье, Марита! Любое дитя — всегда счастье родителя!» А если дитя — несчастье, серьезно, наморщив лоб, спрашивала она отца, если только горе ребенок приносит, тогда как быть?
Решено. После Японии она поедет в Испанию. Станкевич что-то брехал про то, что их снова зовут, хоть с новыми, хоть со старыми программами, в Севилью, в Бильбао и в Мадрид. Если Иван не захочет ехать — она поедет одна. Поедет и будет танцевать одна, соло. Это будет ее личное фламенко. Танцевала же одна великая Анна Дамиани, портрет которой рисовал когда-то Диего Родригес да Сильва-и-Веласкес.
В Испанию. Она попросит жирного Родиона. Она предъявит права.
Права — на что? На свободу?
В этом мире никто не свободен ни от чего. Все связаны друг с другом жестокой порукой. Все завязаны в тугие узелки на одной суровой веревке. И каждый — узник другого. И каждый — пленник и заложник.
Она стояла, глядела на темное восточное море, и море, дыша тяжело, вздыхая прибоем, молча утешало ее медленной, тяжкой лаской волны.
ФЛАМЕНКО. ВЫХОД ЧЕТВЕРТЫЙ. ФАНДАНГО
Я узнал, что она в Москве.
Я узнал об этом не от Ивана. От Беера.
Я позвонил Аркадию, и он, как бешеный, заорал в трубку: «Я заработал массу денег, ты, Метелица драный! Я заработал кучу денег! Все мои делишки обделаны как нельзя лучше! Я и не надеялся, откровенно говоря, что все так гладко проскользнет! Это блеск, старик, это просто блеск! Все получилось идеально!» Я не сразу понял, что речь идет о его японской операции. Чем он там занимался, хрен знает. Возможно, связался с мощной группой наркоторговцев; а может, подрядился кого-то убрать — и убрал, жаль, не моими руками; и там же, там же были мой Ванька и она, там, в Японии, и до меня не сразу дошло, что в трубку мне орет этот бесноватый: «…приехала! Как царица, как Катька Вторая, приехала! Не подступись к ней!» Кто как царица, глупо спросил я, а сердце у меня уже екнуло и застрочило между ребрами, как пулемет. «Пума испанская, краля, выпендрежница наша! Мария, блин, Виторес! Бойкая девчушка оказалась! Все сделала как надо!» — «Я так и знал, что она будет иметь бешеный успех», — холодно сказал я в трубку. Аркадий захохотал как безумный. Потом будто поперхнулся. Помолчал. «Да, она имела там бешеный успех. И цунами ее не смыла в море, представляешь?!» Она сама как цунами, подумал я. Как вихрь. Тайфун. Тайфу — «вихрь» по-японски. Гейш высшего класса называли в Японии «тайфу». Со сколькими мужиками спала тайфу Мария? Разве тебя это должно интересовать, киллер Метелица?!
Она приехала, она приехала, билось во мне маятником, бубном, она приехала, звенел внутри бесконечный колокол, и я могу завтра, нет, сегодня, нет, тут же увидеть ее. Я кинул в трубку Аркадию: «Задания какие будут?» — «Подзаработать хочешь? — усмехнулся Беер. Я воочию увидел его светлые, как два скола льда, жестокие глаза, сивую короткую стрижку, две борозды-морщины, прорезающие кожу лица возле губ. — Похвальное желание, господин Метелица. Нет, пока для вас работенки нет. Может быть, завтра-послезавтра появится. И зачем тебе так много денег, Метелица? Дом на Ривьере покупать собрался? Виллу в Монте-Карло?» Я рассмеялся в трубку. «Нет, детишек молочишком подкормить. И старшую — учиться отправить. Велика уже Федура-дура, в Гарвард учиться просится. Отказать, понимаешь, не могу. Они сейчас все так, молодняк, за бугром хотят образовываться, сам знаешь».
Сердце стучало как колокол. Я сунул телефон в карман. Она здесь! Скорее к ней!
Старый дурак, ты с ума спятил совсем. Если они только что прилетели, представь ее. Она спит. Приняла ванну и спит. Она отпахала двадцать концертов за десять дней и дрыхнет у себя дома без задних пяток. Она прилетела с другого конца планеты. Десять часов с Москвой разница, старый идиот! Ты дашь ей отдохнуть?! Ты… зачем ты собираешься к ней, старый осел, ведь там может быть… там может быть — твой сын!
Твой… сын…
Я бросил натягивать новые, вчера купленные у Версаче джинсы. Опомнился. Замер. Нет, все впустую! На меня опять накатило. Ее губы. Ее глаза, темные, сладкие, страшные. Ее груди. Ее горячая гибкая шея, так и ложащаяся под мои губы. Ее торчащие дыбом твердые, как гранитные, соски, напрягшиеся в смертельном, неистовом желании. Ее пылающий, гладкий, как перламутровая внутренность раковины, бархатистый живот, горячий, нежный, и моя рука скользит по нему, все ниже, ниже, и палец погружается во тьму и влажный огонь, будто в сердцевину раскрывающегося цветка. Я, в умалишении, застонал и положил себе руку на вставшую дыбом, упрямую, победно-жесткую природу. Уд и дух! Неужели вы — одно! К черту. Все к черту! Она. Только она!
Я, выругавшись, резко дернул «молнию» вверх, затянул на талии ремень — не вздохнуть. Я и так был всегда тощий, а тут похудел, страдая, еще больше. Моя белокурая женка подозрительно глядела на меня. Ахала: «Да ты не заболел ли, дорогой?..» Заболел! Да, я заболел. Я заболел ею. Я заболел опасно. Если так дальше пойдет — руки дрожать будут, я потеряю квалификацию, я потеряю кусок хлеба. Я разучусь стрелять. Деньги с собой? Вперед!
Машина завелась лишь с десятого раза. Я, сидя за рулем, уже беспощадно матерился. Улицы мелькали передо мной дикой каруселью. Бульвары, проспекты неслись, катились колесом. Я был белкой в колесе. Я спешил, ехал к моей любимой. К моей бессмертной возлюбленной. Что я, говорил я себе, я окончательно сбрендил, у меня же было столько баб, что никому и не снилось, еще когда я был известный спортсмен, вокруг меня всегда вились девки и бабы, как пчелы вокруг медового цветка, я был меткий стрелок, я прельщал их и выстрелами в яблочко, и самим собой, да, я всегда был самец что надо, неотразимый, и у меня всегда были бронированные яйца, — фу, как ты пошл, Метелица, что ты городишь, но ведь это правда, бабы липли ко мне, я считался у них шикарным мужиком, мужиком что надо, суперкласс, номер один, просто Шварценеггером каким-то, Сталлоне новым я у них считался, и это я выбирал всегда, а не меня выбирали, и я пытался быть возлюбленным, и был им с доброй сотней баб, и я пытался быть семьянином, и я был им, сначала с одной хорошей бабой, потом — с другой, и вот я, старый мерин, внезапно, встретив Марию, понял, что такое любовь. Что — такое — настоящая — любовь! Когда — не можешь — без — нее…