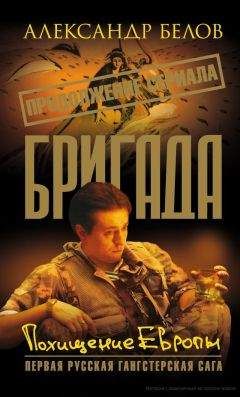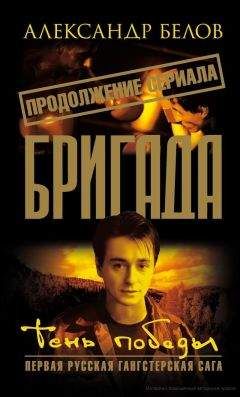Александр Белов - Бригада. От сумы до тюрьмы
— Чтоб вам всем провалиться, — только и успел сказать Пчелкин, имея ввидз' новых русских.
Вдруг дом содрогнулся. Пол накренился, словно палуба, стены сместились по отношению друг к другу. Паркетины со скрипом начали выламываться из пола и подпрыгивать, как живые. Все это происходило одновременно и очень, очень быстро, так что Павел Викторович даже не успел понять, в чем дело. Но у него сработал инстинкт фронтового разведчика.
В сорок пятом ему было двадцать, однако он успел полтора года повоевать и хлебнул фронтового лиха. Теперь Пчелкин даже забыл о своем преклонном возрасте и метнулся к двери коридора, почти как спринтер, но пол стал уходить у него из-под ног, словно ледяная горка. Под ним уже была пропасть. Он повис на пороге коридора, пытаясь пальцами, ногтями задержать сползание вниз, в разверзшийся под ногами ад.
Последнее, что он успел запомнить, был крик Валентины Степановны. Она с неожиданной силой схватила его за ремень и ворот рубашки, отступая назад, втянула в коридор. Сердце у него сжалось, будто кто-то крепко-крепко стиснул его в кулаке, стало нестерпимо больно, и он потерял сознание…
Когда Пчелкин открыл глаза, он лежал на спине под косо висевшей панельной плитой. Боль отпустила. Рядом с ним на полу сидела Валентина Степановна и молча плакала. Никогда еще она не казалась ему такой старой, такой маленькой, ссохшейся, жалкой и несчастной, даже когда они хоронили единственного сына. А ведь она была намного младше его! Когда живешь рядом с кем-то, изменений не замечаешь.
Эх, Витька, Витька… Павлу Викторовичу стало страшно обидно. И зачем это Бог, если все-таки он есть, сохранил им жизнь, а сына лишил? Лучше бы наоборот сделал… Да и нет никакого Бога, иначе он не допустил бы всех этих безобразий…
Дыхнув жаром, внизу взорвался газ, и руины осели, как карточный домик, заглушив последний крик стариков.
Они погибли все, все жильцы дома. Праведники и грешники. Умные и глупые. Любящие и ненавидящие. Их уже нет. Их жизни оборвались.
Они уже ничего не исправят, никого не осудят, не попросят прощения у живых…
XXXV
О взрыве на Гуриевича Шмидт узнал только утром следующего дня из телевизионных сообщений. Как и все, кто услышал об этом злодеянии, он был страшно потрясен. Никто не ожидал, что враг нанесет очередной удар по столице России. Вернее, что это в принципе возможно, хотя после взрыва в Дуйнакске этого следовало ожидать. В списках погибших он увидел фамилию родителей Пчелы, но Холмогоров в них упомянут не был.
Первым делом Дмитрий вызвал начальника службы безопасности Коляна и поручил ему выяснить, что случилось с Юрием Ростиславовичем. Они договорились, что он будет ждать его сообщений в Фонде Реставрации. Колян пропал на целый день, уже поздно вечером отзвонился и сказал, что они едут в офис.
Выйдя от Пчелкиных, академик Холмогров так и не поехал к себе на квартиру, где был прописан. Да и нельзя было туда возвращаться. Там наверняка его ждал похожий на хряка уголовник с замашками Малюты Скуратова.
Как вариант, можно было бы поехать на дачу, но, проверив содержимое карманов, академик убедился, что у него нет ни денег, ни документов. Они остались у Пчелкиных, в отличие от бесполезных в этой ситуации ключей от его собственной квартиры. «И что меня понесло на ночь глядя…», — пожалел он сам себя. Но возвращаться назад не хотелось.
Проводив взглядом отъезжавший грузовичок с лишними мешками, Холмогоров поднял воротник плаща и направился по зебре к тополям на другой стороне улицы, где во дворе близнеца того дома, из которого он вышел, была детская площадка, стояли грибки и лавочки. Он сел на одну из них и поискал глазами окна Пчелкиных. Павел Викторович наверняка сидит себе у телевизора и ругает правительство. Холмогоров поплотнее запахнул плащ, надвинул шляпу на лоб и задремал.
Во сне ему привиделся сам Господь Бог Ветхого завета — Саваоф. Причем они оба висели в черной, абсолютно беззвездной бездне, одетые в черные же похожие на рыцарские доспехи космические скафандры с поднятыми забралами. Кожей лица он ощущал приятный холодок. Гравитации не было вообще, что порождало ощущение удивительной свободы… Больше всего Холмогорова поразило отсутствие света как такового и то, что он, несмотря на это, видит Бога. Как физик он понимал, что это невозможно.
— Хочешь, я покажу тебе Большой взрыв? — спросил его Саваоф, но у Юрия Ростиславовича почему-то больно сжалось сердце от дурного предчувствия…
Он хотел крикнуть, что нет, ни в коем случае не хочет, но откуда-то издали на него пахнуло жаром, большой взрыв сорвал с него шляпу, а его самого прижал к спинке скамейки. В лицо ударила горячая волна песка и пыли.
Одновременно со всех сторон понеслись звуки сирен сработавшей автомобильной сигнализации. Он открыл глаза, и увидел на месте дома Пчелкиных плотные клубы пыли…
Когда Юрий Ростиславович, а за ним Колян с его тростью в руке вошли в офис Фонда Реставрации, больше всего Шмидта поразило то, что старый Холмогоров двигается, как сомнабула. По нему было видно, что он не ориентируется ни во времени, ни в пространстве, и вообще находится где-то далеко отсюда. Шмидт вопросительно взглянул на Коляна, и тот со значением покрутил пальцем у виска.
— Где ты его нашел? — растерянно поинтересовался Дмитрий.
— В ментуре на Гуриевича, он без документов был, его участковый нашел на улице. Менты пытались выяснить, кто он и что, снять показания, но он полностью отключился, ты же видишь. Пришлось дать на лапу, не хотели его отпускать. Я говорю, нужна вам лишняя головная боль, особенно сейчас. А они мне — это важный свидетель…
Оба одновременно посмотрели на академика, с безразличным видом стоявшего посреди комнаты.
— Что будем делать? — спросил Колян Шмидта, положив на стол связку ключей. — Это все, что у него было.
— От его квартиры, — догадался Дмитрий. — Давай вот что сделаем, берем старика и дуем к нему на Ленинский проспект. Завтра найдем сиделку, организуем ему призор. На ночь оставим кого-нибудь из наших, Чилонова, например. Не бросать же деда…
XXXVI
Директриса интерната «Сосновый бор» Шубина решила, что не стоит травмировать детей кошмарными подробностями взрыва жилого дома на улице Гуриевича. И так первые репортажи, которые ученикам позволили посмотреть, вызвали у девочек истерику.
Федеральные каналы по ее приказу были отключены, а вместо новостных программ по кабелю непрерывно крутили фильмы — в основном комедии и фэнтези. В учебное время преподаватели обрушили на детей лавину заданий. Лучшее средство от горя и переживаний — работа.
Занятия шли, как и в других учебных заведениях, по программе, словно по накатанной колее. Но колея тут все-таки была немного другая. Бела она как бы в гору. Лариса Генриховна не уставала повторять коллегам:
— Сегодня вы учите тех, кто будет назначать вам зарплату и выплачивать пенсию завтра. И чтобы потом не бить себя в грудь, учите их так, чтобы им и спустя годы хотелось платить вам как можно больше!
И эту концепцию директор интерната подкрепляла универсальным средством: жесткой, но честной внутришкольной конкуренцией.
Эффект от ее слов был не так велик, как хотелось бы. Но все-таки был. Даже обструганные государством училки на конкретном примере были способны понять взаимосвязь качества своей работы и оплаты за нее.
Все обязательные и необязательные предметы: русский, английский, математику, физику, семейную и деловую психологию, основы права и прочие предметы, — преподавали для каждого класса как минимум два учителя, на выбор. А экзамены принимали комиссии из приглашенных со стороны известных педагогов и ученых.
И учащиеся, зная, что от правильного выбора преподавателя зависят их оценки, а следовательно, и деньга-шишки, и степень свободы, и привилегии, ходили на занятия тех, кто учил лучше: понятнее, интереснее и толковее.
Ну, а чем больше учеников, чем лучше их успехи, тем весомее зарплата преподавателя, чем меньше — тем вероятнее увольнение. Таковы суровые законы конкуренции. С другой стороны, если кто-то из детей и сам не успевал, и другим мешал, таких безжалостно отчисляли под каким-нибудь благовидным предлогом, вроде чрезвычайной одаренности к рисованию, которая требует срочного перевода в художественную школу.
На таких жестких условиях найти учителей было не так-то просто. Выпускники пединститутов в подавляющем большинстве предпочитали жаловаться на мизерные ставки в школе, а не вкалывать и зарабатывать деньги там, где можно было это сделать.
Но уж если кто приживался в «Сосновом бору» — учитель или ученик — для него это место делалось в полном смысле родным домом и альма-матер…
Несмотря на малолетство, а Иван был почти самым младшим, он быстро уловил здешнюю специфику.