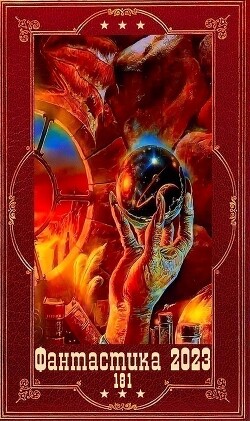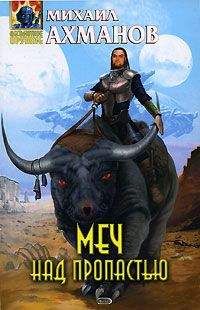Массажист - Ахманов Михаил Сергеевич
Вытащив чистый лист из тумбочки, он принялся задумчиво водить карандашом, посматривая то на фотографию жены, то на дверь, за которой раздавался дружный топот. Конец рабочего дня, люди вольнонаемные устремились к лифтам и лестницам, а служивые сидят, и сидеть еще будут долго… И Караганов, и Верницкий, и Голосюк, и Вадик-практикант… И Линда…
Он покосился на рисунок – получался женский профиль, чем-то похожий на Веру и на Линду, с массой вьющихся локонов, буйных, словно штормое море. Несколькими точными движениями Глухов изобразил поверх прически шляпку в форме парусного корабля и начал трудиться над виньеткой из виноградных листьев и цветов шиповника.
Это помогало думать. А думал он о том, что во всех пяти ситуациях, если приплюсовать генеральшу Макштас, прослеживаются сходные моменты: и возраст усопших, и диагноз, и их одиночество, и внезапное переселение в лучший мир – ночью, в собственном жилище или в постели; а что еще важней, если задуматься о сходстве – их благосостояние, явное и в то же время неопределенное, смутное, будто вид на старинный дворец, затянутый флером тумана. Можно предположить, что дворец велик и отделан с подобающей роскошью, но сколько в нем этажей?.. и сколько башен?… Есть ли крыльцо, конюшня, трубы, сад, фонтаны, цветники? Дубовые двери с резьбой, колонны, витражные окна и изваяния в саду?
Туман скрывает все детали, туман провоцирует похитителя… Колонны он не украдет, равно как трубы и окна; слишком громоздко, тяжело, да и заметно. В самом деле, какой дворец без окон, без колонн и труб?.. Вот если статуи в саду… пусть небольшие, но драгоценные… скажем, работы мессира Челлини… или хотя бы Эрнста Неизвестного… Предметы, которых никто не видел, а если и видел, то бог его знает, куда они делись – то ли почивший хозяин их продал, проел и пропил, то ли нечистая сила стянула, то ли наследник морочит голову…
Все это условно пропавшее, о чем вроде бы помнили, да не нашли, ассоциировалось у Глухова со статуэтками из дворцового сада, в который – он был почти уверен – пробрался незаурядный ловкач, умевший взять по-тихому, по-крупному. Где деньги, где картину… И этот таинственный гость – если только он не являлся глуховской фантазией – был удивительно растропен: он не опаздывал, он приходил за смертью, шагая по ее следам, и точно знал, чем стоит поживиться. Что можно брать, а что – нельзя… И сколько брать… Знал в подробностях, в деталях: у Симановича унес все деньги, а у вдовы-генеральши – столько, чтобы не вызвать подозрений.
– Хитрый, черт!.. – пробормотал Глухов, соображая, с кем и в каких обстоятельствах могли откровенничать старики. Что же касается факта доверительных бесед, то он не подлежал сомнению – были беседы, были! И не одна… И перечислялись родичи, еще живые и уже покойные, и говорилось о друзьях-товарищах, об усопших женах и мужьях, об одиночестве, о пролетевшей юности и памятных вещицах, малых весом, дорогих ценой… С кем говорят о подобных материях? С человеком, допущенным близко к телу, а значит, и к сердцу… С тем, кто помогает, изгоняет боль, проклятие стариков, перед кем не стыдно раздеться и душу обнажить…
Значит, все-таки врач, подумал Ян Глебович. Не тот доктор… Какой-нибудь экстрасенс, мануолог или массажист… Из тех, что таскаются по домам, то ли лечат, то ли калечат…
Эта загадочная фигура была столь же неясной и призрачной, как связь событий и шаткие гипотезы, объединявшие их в конструкцию, где главным строительным материалом был песок, немного смоченный слюной воображения. Все было зыбко, неопределенно, основано на смутных аналогиях, на интуиции и на возможности того, что может быть свершилось, может – нет, или могло свершиться в каких-то случаях, тогда как другие были совсем ни при чем – хотя, на первый взгляд, неплохо вписывались в общую картину. Глухов это понимал, а потому торопился перебраться из зыбкой трясины домыслов на твердую почву фактов.
Он бросил взгляд на часы. Половина седьмого… Не лучшее время, чтобы беседовать с Грудским… С другой стороны, они созвонились на прошлой неделе, и Лев Абрамович обещал, что непременно добудет спеца, причем такого, чтоб разбирался в массаже получше прозекторов. Сам он мог поделиться лишь общеизвестными истинами – вроде того, что любой массажист может прикончить любого клиента, если надавит на горло коленом, а локтем – на солнечное сплетение. Или, к примеру, в турецкой бане, где делают массаж ногами… Влезет на спину здоровый лось, попрыгает, покуражится и саданет в помидоры… Враз коньки отбросишь!
Такая манера выражаться была свойственна Грудскому, ибо он, порезав множество трупов и изучив их желудки, влагалища и черепа, все же остался шутником и даже оптимистом. Правда, юмор его носил физиологический оттенок, что временами коробило Глухова, хоть повидал он не меньше трупов, чем Лев Абрамыч. Однако тут имелась разница: для Глухова всякий труп был погибшим человеком, а для прозектора – грудой костей и мышц, которую полагалось разделать в полном соответствии с нормативами.
Лев Абрамович откликнулся после первого гудка. Судя по голосу, его сегодняшний норматив был перевыполнен: восемь, а то и девять трупов, рюмка до и рюмка после. Впрочем, рюмки были небольшие, граммов по двадцать пять.
– Янчик, ты?! – с нескрываемой радостью рявкнул прозектор.
– Ты знаешь, что я отскреб? Нет, не перебивай, послушай… Послушай, говорю, дорогой! Такое услышать – бутылки не жалко! Приносят, значит, мне ханурика… шкаф двенадцать на восемнадцать, ножки стола под ним прогибаются… Сам бритый, с татуировкой, расписан от бровей до пят, задница – под Рубенса, на животе – Сезанн, и член колечками… Да, еще дырка имеется в ребрах, сзади… здоровая такая, не иначе, как ледорубом саданули или отбойным молотком. Такая дыра – ну, прямо ку-клукс-клан твою мать! Делать нечего, вскрываю расписное брюхо, откачиваю кровь… кровища – по потолка!.. меняю маску, смотрю, куда ему въехали… здорово въехали, от печени до поджелудочной… Дай, думаю, в желудке покопаюсь… и покопался… Ты не поверишь, что я там сыскал! Тебе, сыскарю, и не снилось!
Была у Льва Абрамыча страстишка – вещицы, что извлекались из желудков и кишечников, ушей, ноздрей, прямой кишки и прочих потаенных мест, используемых не по назначению. За тридцать лет прозекторского стажа набрал он любопытную коллекцию, в которой были гвозди и булавки, монеты, кольца, пуговицы, капсулы с наркотиком, десертные ложки и пробки всех размеров – и от бутылок с шампанским, и от аптечных пузырьков. Среди всей этой утилитарщины встречались изумительные экспонаты – крохотная чашечка для саке, миниатюрный консервный нож, фарфоровая киска, зажигалка, а также латунная пряжка с джинсовых брюк, выдранная, очевидно, с мясом – на ней остался след зубов отпрепарированного Львом Абрамычем покойника. Теперь нашелся новый раритет, и выслушав, какой, Глухов чуть не обронил телефонную трубку. Этот бритый шкаф с задницей под Рубенса был большим оригиналом! Очень большим! За что, вероятно, его и проткнули от печени до поджелудочной железы.
Наконец восторги прозектора поутихли, и Ян Глебович смог вставить словечко.
– Лев Абрамыч, я насчет своей просьбы. Помнишь, ты мне массажиста обещал? Самого лучшего, для консультаций… Ну, разыскал такого?
– Если насчет консультаций, так тебе не массажист нужен, а эксперт, – прогудел Грудский. – Хороший эксперт. А массажистов кругом как блох в собачьей шерсти… лучших, худших, всяких… даже массажистки есть, персонально для генеральных прокуроров. Время такое, понимаешь, шизофренично-радикулитное… нервное время, особо для мужиков в наших с тобою годах. Лишь массажем и спасемся. Чтобы не выйти до срока в тираж, кушай виагру и делай массаж…
– Ты мне зубы не заговаривай, – с легким раздражением сказал Глухов. – Ты мне внятно скажи: нашел эксперта или нет?
Грудский хмыкнул в трубку.
– Внятно говорю: нашел. Тебе, брат, про Тагарова слышать не доводилось? Про Номгона Дагановича, первостатейного знахаря с тибетских палестин?
Имя было Глухову знакомо. Что-то он про Тагарова слышал или читал, но в положительном ракурсе или наоборот, вспомнить не удавалось.