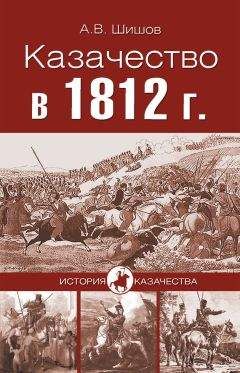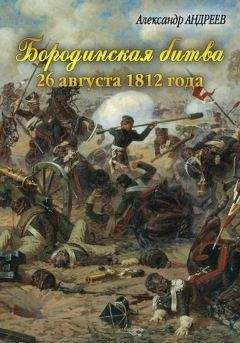Фридрих Незнанский - Черный амулет
К этому своему тяжкому ощущению какого-то морального бессилия Александр Борисович не раз возвращался и чувствовал свою постоянно возрастающую вину. Вплоть до того, что мелькала совсем уже крамольная, грешная мысль: лучше уж было бы сдохнуть, чтоб и отпели, и похоронили, как человека, как… ну, пусть и героя даже. А то теперь — ни то ни се, да еще плюс муки до самого смертного часа…
И что ж она такая, судьба-судьбинушка-то, грустная?… Ведь многое случалось в жизни — и пули были, и ножевые ранения, и взрывали, а совсем недавно вовсе вон сколько провалялся в Склифе после очередного пулевого ранения. И ведь ни разу тоскливых мыслей не появлялось… Нет, один раз — было. Это тогда — в Сокольниках, о которых напомнил засранец-адвокатишка… Юрка Гордеев, говорил Сева, решил предложить Переверзеву, арестованному генеральному директору, свои услуги. И ведь вытащит, Юрка это сможет… Ну и пусть вытаскивает себе… Но с тем случаем в Сокольниках он сам про себя решил, а здесь, получается, уже за него все решили и поставили точку. Вот теперь и подумай, Саня, какие мысли у Ирки в голове бродят? О чем? О каких жизненных перспективах? Сиделка — при лежачем… с уткой под задницей. Вот то-то ж она с этим пацаном возится. И папаша у него жив-здоров, считай, рядом с ней, помнил его Турецкий, а тут у нее еще и потеря такого желанного, такого уже любимого ребенка… Да любая баба с ума сойдет… А Ирка приходит, ухаживает, глаза прячет, чтоб он ее слез не видел. Или тайных мыслей ненароком не прочитал?… Делает вид, что все хорошо… И Костя — туда же… Ну прямо такой заботливый стал, будто впервые в жизни вину свою почувствовал перед теми, кого сажал — за дело, между прочим…
Случались моменты, когда Александр Борисович, мучимый понятной ревностью, уже жалел о том, что вспомнил об этом вот, что болтается на спинке стула, амулете. Дерьмо какое-то злобное. Надо ж себе такого урода придумать! Урод уродом, а в память почему-то впечатался. Вот и вспомнил Турецкий, у кого его видел, а следом и появился этот Антон. Сколько уже? Да больше двух лет прошло… И сам накликал на свою голову. Мало у тебя было забот, Турецкий, зато теперь ты можешь каждый день по два-три раза слышать, как славный Васенька, «сын нашего Антона», — и с каких это пор он наш, черт возьми?! — попросил то, попросил другое, сделал третье… Она уже с ума сходит от собственной материнской невостребованности! Даже о родной единственной дочери так, кажется, не заботилась… Или он преувеличивает? Накачивает себя? Оттого, что доктору лучше уж было бы погоду предсказывать?…
Ну все! Хватит самоедства! Никуда эта каталка не денется, обязательно подчинится, туды-растуды ее мать!..
Александр Борисович осторожно сдвинул к краю кровати свои ноги, руками помог им опуститься на пол. Дотронулся ступнями до пола, тапочки искать не стал — покрытый пластиком пол приятно холодил не очень-то еще чувствительные ноги. Подержал их так, примерился и, потянувшись к креслу, развернул его боком к себе. Из такого положения ему уже пару раз, правда, не без труда, удавалось перекидывать свое тело в коляску. Ну а дальше — техника, руки-то нормальные, крути себе колеса…
Он мысленно видел как бы со стороны себя в этой коляске на колесиках, но большой радости при этом не испытывал. Немедленно вспоминались иные, но поразительно похожие картинки. Вот безногий инвалид, одетый в форму десантуры, с раскормленной рожей, в тельнике и голубом берете, катается возле светофора на перекрестках между стоящими потоками машин — просит милостыню… А вот в загородной больнице по аллее парка катится в кресле совсем уже немощная развалина — древний старик. И сопровождает его, толкая коляску, такая шикарная медсестричка в коротеньком халатике, что хочется немедленно пригнуть ее к спинке этого дурацкого кресла — старец-то ведь все равно уже ни черта не видит и не слышит! — и стать ее постоянным медбратиком… А теперь представь себе, Турецкий, что это ты в каталке. И больше ничего другого на ум тебе никогда уже не придет…
Однако если не ты, то кто же? И Александр Борисович решил малость усложнить сегодня свое испытание. Опираясь руками — одной в кровать, а второй — в поручень кресла, стоящего на стопоре, он стал медленно подниматься. Не пересаживаться, а именно встать. И постоять… Один раз так уже получилось — простоял, правда страхуя себя спинкой кресла, около тридцати секунд. Сам почувствовал себя победителем, но когда похвастался Ирке, чуть не вышел скандал. Оказывается, ему и в кресле-то кататься категорически еще запрещено! Ну, блин, врачи… И он решил больше о своих успехах не говорить никому.
— Ну давай, не трусь, госсоветник! — сказал себе Турецкий и… выпрямился. Даже замер от восторга. Мысленно, сбиваясь почему-то, стал считать секунды, нарочно произнося их медленно. Досчитал до двадцати и почувствовал, что пора кончать. И так стоял, ни за что не держась! Так это же победа!
И он от радости немедленно совершил ошибку. Надо было сперва крепко взяться двумя руками за спинку кресла, почему-то мелькнуло в голове: как та медсестричка, которую он однажды действительно видел! И Турецкий хмыкнул и забыл, что он теперь должен медленно наклоняться к поручням. Забыл! Наклонился сразу и… промахнулся правой рукой. Его тело повело в сторону и, пытаясь удержаться, Александр Борисович расставил руки, задев локтем стопор кресла. Сам-то смог удержаться, упав налево, на кровать, а кресло откатилось вперед.
Ему бы успокоиться, начать сначала, усесться, успокоиться, подкатить кресло, не рисковать, но, видно, помешало ощущение первой серьезной победы, вопреки пророчествам Ивана Поликарповича, чтоб его… Словом, совершил новую ошибку, решил просто так дотянуться до кресла и вернуть его на место. Ну, дотянуться-то дотянулся, да только про стопор, естественно, считая себя уже вполне здоровым человеком, забыл. И когда взялся двумя руками за поручни, желая подтянуться, кресло, по понятной причине, снова поехало, и Турецкий тоже поехал, потянувшись за ним, в результате чего оказался лежащим на полу. Рядом с опрокинутым набок креслом.
Даже выругаться от отчаяния не было сил. Он лежал на животе, смотрел на дело своих рук и… вдруг стал смеяться. Более дурацкой ситуации и придумать себе не мог. Ну кресло — хрен с ним, нянечка придет и поднимет, а вот как самому теперь взобраться на кровать? Ползти? А подтягиваться за что? За спинку? Тогда надо ползти в обратную сторону… черт знает что такое…
Он понял, почему ему стало смешно, — это от полнейшей безнадежности. И вспомнил старинный анекдот про Наполеона, который, будучи в Москве и экономя фураж, сокращал рацион у лошадей всадников маршала Даву — он был у Бонапарта в роли Берия, если сравнивать с нашим недавним прошлым. Короче, сокращал, кавалеристы ругались, грозили поднять бунт, Даву умолял остановиться, а Наполеон все сокращал. Пока кавалеристы не стали почему-то хохотать. И тогда узнавший об этом Бонапарт велел вернуть им весь отнятый фураж. Мораль такая: он один сразу понял, чем грозит ему смех. Угрозы — хрен с ними, это мы переживем, а вот смех?…
М-да, однако, вставать-то все равно придется.
И только пришел к такому решительному выводу, как в дверь постучали, и вошел… Плетнев. Саня сразу его узнал. Видно, и тот в растерянности остановился посреди палаты, а потом кинулся к лежащему на полу, возле кровати, Турецкому.
— Александр Борисович! Что случилось?!
Меньше всего именно его хотел в эту минуту видеть Турецкий. На хрена ему свидетель? Вот уж теперь-то он точно оказался по уши в дерьме, чтоб его…
— Да все в порядке, — сердито ответил он. — Не лезь, я сам…
— Вы, что ли, в кресло хотели сесть? — сразу просек ситуацию Плетнев. — Погодите, я вам помогу.
Он поднял и поставил на колеса кресло. Закрепил стопор, потом без особого труда поднял тяжелое тело Турецкого и помог ему усесться в кресло.
— Поскользнулся, — прошептал Александр Борисович, и Плетнев с готовностью кивнул:
— Ну да, этот пластик на полу вообще скользкий. А если вода попадет, так просто каток. Ох, все мы прошли через это!..
Последняя фраза, что чутко уловил настроенный вроде бы на враждебную волну Александр Борисович, была произнесена этим здоровым мужиком без подтекста — ни сожаления, ни иронии. Может, это и успокоило Турецкого, подвигло и его самого к встречной самоиронии.
Он убрал с лица выражение неприязни, но сказал все-таки с кривой усмешкой:
— Ну что, жалкое зрелище, да, Плетнев?
А тот отреагировал совершенно спокойно:
— Так это ж все от контузии, Александр Борисович… Вы особо не берите в голову, пройдет. Я всякое повидал, знаю. А вы нормально уже выглядите, хотя и срок пока небольшой. Так что не беспокойтесь, и не такие вставали!
— Да? — снова усмехнулся Турецкий, но уже более спокойно. Хорошо жить об руку с надеждой. — Ну что, рад тебя видеть, Антон, живым и здоровым. Вон, бери стул, присаживайся. Мне передавали, что Ирина с твоим сыном должны скоро приехать. Ты ведь за ними?