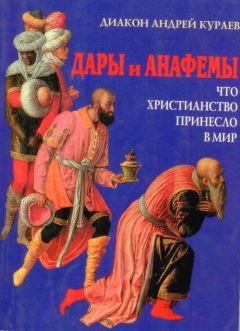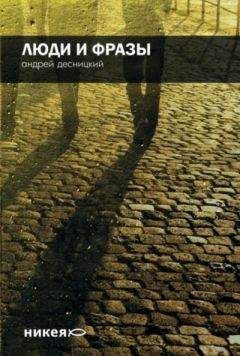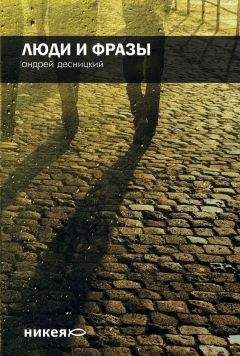Елена Крюкова - Красная луна
Это? Допрос. И от твоих толковых ответов, кролик мой, зависит, как ни странно, твоя судьба. Ты ведь веришь в судьбу? Или философы не верят? С кем ты была связана в Тбилиси? Какие тайные материалы и кому передавала? И по чьему приказу, главное, по чьему приказу?
Молчание застыло между двумя женщинами странной белой пеленой. Так застывает на морозе растопленный бараний жир. Отчего-то перед Ангелиной, как живой, встал во весь рост Архип Косов, его койка, скрипящая ночью под ними двоими. «Ты нахалка, Ангелина, ты сумасшедшая, ты нимфоманка. Или ты думаешь, что главному врачу такой больницы все дозволено, как Родиону Раскольникову?! Нет, ты ничего не думаешь. Тебе просто понравился мальчик, и ты взяла его, голенького, тепленького, со всеми потрохами. Уйди, Архипка. Не береди душу. Ты лежишь в своей палате, ну и лежи. Я занимаюсь этой девицей. Это серьезнее, чем кажется на первый взгляд».
Мы все равно возьмем верх, — прошептала эта упрямая философка с бритой, похожей на голую пятку головой. — Вы нас не остановите. Никто.
ПРОВАЛ
Отвечай!
Не отвечу.
Отвечай!
Не отвечу. Мне нечего вам говорить.
Ты все равно расскажешь нам все! Вы не просто так били на рынке людей! Вы не просто так убиваете! Вы убиваете кого-то, кого вам приказали убить. Вы уничтожаете целенаправленно и злонамеренно. Кто вы такие, отвечай?! Кто?!
Я ничего не скажу вам. Можете меня запытать. Я знаю пророчество.
Что ты мелешь, щенок?! Какое пророчество?!
Такое. Великое. Оно звучит у меня в голове. Вы пронзили меня током, и оно стало звучать у меня в голове.
Говори! Говори, что звучит у тебя в голове!
А… Да… Вот оно…
Грабеж и разбои кровавою, дикою бурей
Семь раз по морям и по суше страдальной пройдут.
И всем белокожим — жить под невольничьей хмурью,
А все с черной кожей владыке корону несут.
И вот загремели над Градом воздушные битвы,
В Столице вихрь с корнем деревья рвет…
Храм пуст, как сосуд. И нету уст для молитвы.
Народ мой, обманут, на паперти пьяную песню поет.
Пьяную песню, вы слышите! Пьяную песню…
Да ты сам пьяный, парень. Он пьян! Прекратите допрос! Уведите его в палату!
Я пьян от боли. Я пьян от любви.
Уведите его!
Дайте мне красный апельсин. Дайте мне Красную Луну. Вон она, я вижу ее в окне. Сейчас зима, а Луна красная, как летом. Она залита кровью. Моей кровью. Я там родился, на Луне. У меня не было матери. Я ее забыл. Луна — моя мать.
Кто-нибудь из твоего окружения, пащенок, был каким-нибудь макаром связан с террористами?! Отвечай!
Я сам главный террорист. Я выйду отсюда и перебью вас всех. Они там, на Востоке, думают, что только у них разработана и отлажена сеть террористов. Наступило время не явной, но тайной войны. Начнется Зимняя Война, я обещаю это вам. Я говорю это вам. Это единственное, что я вам могу сказать. Апельсин. Луна. Красные губы. Почему у той, что приходит ко мне по ночам, красные губы?!
Дайте мне! Дайте! Дайте мне ее! И я запущу в нее зубы, и я откушу кусок… красный сок… льется по подбородку…
Уведите его! Уведите!
* * *В дверь просунулась веселая рожа. Ноздри, как у зверька, расширились и глубоко вдохнули, втянули воздух, в котором перемешались ароматы варящегося, булькающего на плите глинтвейна, курева, жареной картошки, молодого пота, пышущего из молодых подмышек, из-под черных рубах с закатанными до локтей рукавами и из-под тельняшек, клея «Момент» — на полу была разложена огромная самодельная афиша, и к ней приклеивали огромный, самодельный же, раскрашенный черной тушью картонный Кельтский Крест.
Эй, пацаны! Скины! Ну че, все готово? Или вы опять тормозите?
А тебе че надо, чтобы было готово? — Рослый, широкий в плечах, мощный как шкаф парень поднялся с полу, с корточек, и угрожающе двинулся к веселой роже, торчащей в дверном проеме. — А сам не хочешь ручки приложить, Зубр? Пальчики? А также башку? Или слабо?
Не, че ты, Люкс, че ты, че ты… Хочу! Не тронь! — Зубр шутливо вздернул руки и показался в двери весь — похудее, чем рослый и массивный Люкс, но не менее широкий в плечах, такая же косая сажень. — И даже приволок кое-что! Фюрер будет доволен.
А Фюрер че, сюда, што ль, явится?.. Много ж нам чести…
Не-а, мы ему сами все принесем… на блюдечке!..
С каемочкой из маленьких черных свастичек, да?..
Не без этого…
Блюдечко разрисовал?.. вали сюда…
Держи карман шире, Люкс!.. Брызни глинтвейну!..
Облизнешься и утрешься, Зубрила…
В огромной пустой, без мебели, комнате с грязными, в потеках, давно небеленными, не обклеенными обоями, обшарпанными стенами, — что было тут когда-то?.. контора?.. учреждение?.. офис?.. или, может, кто-то тут жил, обрастал хозяйством, вдвигал сюда человечьи коробки, шкафы, тумбы, иные ящики для хранения одежды и утвари, а потом люди умерли или уехали отсюда, а их обстановку разломали на щепки, сожгли в печах в лютые холода?.. — никто не знал… — толклись и бормотали, хохотали и ругались, готовили еду и мастерили: жили. Здесь собирались бритые скины, пили водку, писали свои песни, готовили корявые, неуклюжие тексты воззваний, шили флаги с черными крестами, учились бороться, дрались и возились, слушали новые кассеты с записями «Реванша» («во дает Таракан!») и «Герцеговины флор» («ну, нынче чуваки что-то не в форме, что-то сдали немного они, пора на Канары, отдохнуть пора корешам»), приводили сюда девиц и раскладывали их прямо на полу, на двух черных тонких физкультурных матах, что притащены были сюда из школы напротив; сам дом, раньше жилой, в котором находилась комната, где не только собирались бритоголовые, но и обитали, жили два бродячих скина — Лемур, с глазами огромными, как у совы, приехавший из Красноярска, и Старый Пес, поименованный так из-за странного, прикольного лица, сильно напоминающего собачью печальную морду, — да мало ли чем тут занимались они! Самое забавное, что никто из скинов не знал, не помнил, как и когда появилась у них эта комната; кто за нее платил; и никто и не помышлял, что у них могут ее отобрать, или, еще хлеще, выгнать их всех отсюда. Они жгли свет, варили на старой электрической плитке еду, жарили в необъятной старой сковороде, найденной на свалке, вечную картошку, что в мешках с рынка приволакивали Лемур и Алекс Люкс, и в ус не дули. Время остановилось. Фюрер их опекал. Фюрер иной раз с царского плеча кидал им деньгу. А еще был Уродец. Чек. У Чека всегда водились бабки. За Чеком всегда стояла живая сила. Чек и сам был — сила, и его боялись. Боялись все, кроме Зубра. У Зубра с Чеком была война.
Этот… страшный… приходил?..
Зубр подмигнул Алексу Люксу, шагнул через порог. Окинул придирчивым взглядом плакат с размахнувшимся по всему бумажному полю Кельтским Крестом.
Недурно. Куда поволокем?
На Щипок. Привесим на стену этого… как его… ну, институт там. Студентов куча. Пусть бегут мимо, читают.
Жопы они все, твои студенты. Они ничего не читают. Они спят на лекциях.
Спят, чтобы в армию не идти.
Наших половина в армии побывала.
А я вот не был. И закосить, между прочим, желаю.
А Чек вот был. И даже воевал.
В какой там, блин, армии! Знаешь ты все!.. — Зубр аж задохнулся от возмущения. — Знаешь, где Уродец воевал? Вместе с боевиками бился, на Кавказе дрянном, на стороне чечнюков, против нас, блин! Против нас, русских, понял?! Да и сам-то он — еще проверить надо, русский какой!
Дверь распахнулась. Люкс, поддев носком массивного черного «гриндерса» лежащую на полу свежезакрашенную афишу, повернулся к вошедшему.
Легок на помине, Чек, — насмешливо сказал он. — Классно, будешь богат и счастлив! Весь в шоколаде будешь скоро, блин! Щас только о тебе говорили!
Я слышал, — беззвучно сказал Чек, делая шаг по направлению к Зубру. — Я все слышал. Иди сюда, дрянь. Я желаю поговорить с тобой. Без слов, сука, но от души.
Зубр не заметил, когда Чек, перекосив в ярости и без того страшное, искореженное, все изрезанное лицо, сделал молниеносный выпад. Они сцепились, впились друг в друга, обхватили друг друга руками и ногами, как два черных паука, и повалились на пол, и покатились — прямо под ноги другим скинам, что копошились в огромной комнате, хозяйничали, переворачивали ножом картошку на сковородке, сидели, скрестив ноги, на матах, слушая горланящую группу «Аргентум»: «Хальт! Хальт! Твой голос — альт! Хальт! Хальт! Два пальца об… асфальт!..»
Два пальца об асфальт — это классно придумано, — задумчиво проронил Алекс Люкс, поводя под мокрой от пота черной рубашкой широкими, налитыми плечами, наблюдая, прищурясь, как Чек и Зубр катаются по полу и молотят друг друга. — Эй, друганы, только не до крови! Только не до крови! Ну до чего на кровь натасканы, прямо сладу нет!