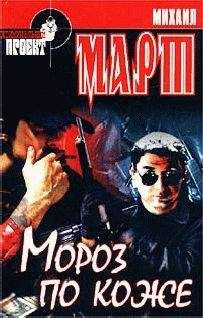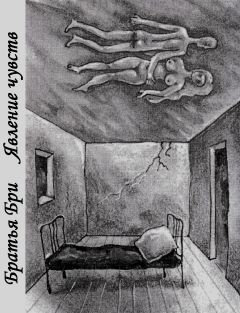Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
Двигаясь вдоль цепочки людей, ловя в объектив руки, ведра, мокрые лица, он увидел Сесара – высокий, сутулый, стараясь не пролить ни капли, принимал ведро у мальчика в черном камзольчике с галстуком-бабочкой. Белосельцев спрятал на голую грудь камеру. Застегнул рубаху на все пуговицы. Втиснулся в цепочку рядом с Сесаром. Принял мятое, сочащееся влагой ведро. Пронес его перед собой, передавая в близкие руки Сесара. Посылал свою долю навстречу беде и пожару. Был вместе со всеми, в общей цепи. И Сесар, принимая ведро, взглянул на него благодарно.
К вечеру они вернулись в Чинандегу, подгоняемые тугим, ровным ветром, который свистел в приоткрытых стеклах машины, гнул в одну сторону деревья, стелил придорожную траву, задирал платья женщин, бредущих по обочине, и те хватались за подолы, боролись с невидимкой, который грубо их пытался раздеть. При въезде в город вечерний воздух был наполнен мутью, пылью, и все строения едва заметно туманились, словно начинали испаряться.
– Ночью придет большой тайфун, – сказал Сесар. – Таким тайфунам дают обычно женские имена. Какое бы вы ему подыскали имя?
Белосельцев чувствовал, как изможден, как болит обожженная шея, как ноет вывихнутое плечо.
– Валентина, – произнес он безотчетно и вдруг подумал, что это имя весь день просилось ему на уста среди криков и военных команд и только теперь прозвучало.
– Если к утру тайфун «Валентина» стихнет, мы, быть может, отправимся в Сан-Педро-дель-Норте, о чем я узнаю в штабе. Отдыхайте, Виктор. – Сесар, остановив машину перед въездом в госпиталь, бережно коснулся его плеча, и в этом прикосновении, как показалось Белосельцеву, была благодарность за соучастие в смертельно опасной борьбе, что выпала на долю его родине. – Утром я за вами приеду.
При входе в госпиталь Белосельцеву попалась монашка, сухая и стройная, в белой пелерине.
– Добрый вечер, сеньора, – поклонился он ей. Она взглянула на его закопченную, измызганную одежду, чуть поклонилась в ответ:
– Добрый вечер, сеньор.
Он вошел в кабинет Колобкова. Тот встретил его тревожным вопросом:
– Были в Коринто? Большой пожар? К нам стали поступать обожженные. Если ураган усилится, у нас будет тяжелая ночь…. Постойте, да у вас на шее ожог…
– Пустяк, – сказал Белосельцев, – летучая капля горючего.
– Давайте, я вам обработаю.
Белосельцев снял полуистлевшую рубаху. Колобков пропитал спиртом бинт, промокнул воспаленную кожу. Белосельцев чувствовал холодные вспышки спирта, быстрые, не причинявшие боли пальцы Колобкова, наносившие на ожог легкий слой вазелина.
– Пойдите в столовую, вас там накормят, – сказал Колобков, уже забывая о нем, готовясь к вечернему обходу переполненных палат, где зажглись высокие желтоватые лампы и, встревоженные известиями о пожаре, поджидали его больные.
Не надевая рубаху, Белосельцев прошел в свою комнату, положил на подушку фотокамеру, которая нуждалась в отдыхе не меньше, чем он. Сел на кровать, устало опустив руки, слушая шум ветра, глядя на близкий сумрачный вулкан, едва различимый, враждебный, сквозь стекло, на которое просыпались мелкие брызги дождя.
Дверь бесшумно растворилась, и белой тенью вошла она. Не увидела, а угадала его в сумерках, на кровати. Приблизилась, протягивая руки, отыскивая его на ощупь. Наклонилась, заглядывая в лицо:
– Вернулись?.. Мне сказали, у вас ожог… – Протягивала пальцы к его шее, не касаясь, но он чувствовал, как бежали от ее пальцев прохладные ветерки, остужали обожженную кожу. Ее появление ожидалось. Было желанным и предсказуемым. Он ожидал его еще утром, уносясь по шоссе от солнечной изумрудной горы, мечтая, как вернется вечером к розово-голубому вулкану и увидит ее. Он мечтал о ней, когда катер уносил его в перламутровое море и белая чайка поворачивала недвижные крылья над пенной бахромой, нацелив на него темный глазок. Думал о ней, когда хрустальные блестки летающих рыб брызгали из зеленой волны, и он хотел, чтобы она была рядом и увидела эти воздушные танцы прозрачных морских существ. Он несколько раз подумал о ней среди черного, с красной подкладкой дыма, когда в руках у него оказывалось ведро с малиновой, отражавшей пожар водой, и ему было страшно за опаленную свадьбу, за обезумевшую невесту и за нее, Валентину, незримо метущуюся среди несчастной толпы. Он думал о ней, когда мчались из Коринто в свистящем ветре, и когда встретил на крыльце госпиталя монашку, и когда Колобков прикасался к ожогу прохладным пламенем спирта. И теперь она стояла перед ним в темноте, в белом халате, и он сжимал в своих руках ее ладони, и она говорила:
– Я знала, что вы там были. Услышала про пожар и подумала: вы непременно там. Стали прибывать обожженные, и я молила: «Только бы не вы!»
Он целовал ее пальцы, положил их себе на голую грудь, чувствуя их прохладные отпечатки.
– Подождите… Я пришла на минутку… Мне нужно идти к больным…
– Не уходите… – Он отпустил ее руки, видя, как она отступает, удаляется в темноту.
– Приду… Потом… – и выскольнула из комнаты. Словно прошла белой тенью сквозь стену, оставив на его груди прохладные прикосновения.
Не зажигая свет, вытянулся на кровати поверх одеяла, слыша, как воет ветер, надавливая на стекла, швыряя в них громкие брызги. Вулкан был невидим, лишь угадывался по реву ветра, который, залетая в кратер, дул в угрюмую каменную дудку земли. И от этого подземного утробного воя в душе просыпались старинные детские страхи и суеверия.
Он закрыл веки. Глазные яблоки медленно поворачивались в глазницах, и на их оборотной стороне возникало: черный борт гондурасского катера с красным мазком ватерлинии, клокочущая от пуль водяная яма, и среди пузырей скачут, мечутся пробитые головы. Вертолет «Си-найт» кладет на море плоскую рябь солнца, нависает стеклянной кабиной, остриями ракет и снарядов, и Сесар задирает горбоносое, с оскаленными зубами лицо, целит пистолетом в свистящие лопасти. Шар света над малиновой раскаленной цистерной, летящие в бесцветном небе огненные воробьи, и детская кукла, матерчатая, без одежды, дымится в луже мазута, похожая на погибшего космонавта.
Он открыл веки, поворачивая отяжелевшие от зрелищ глазные яблоки в глубину утомленного разума. Шумел дождь, дребезжали стекла, зеленоватый наружный фонарь высвечивал на стене струящийся прямоугольник окна. Завывала огромная каменная дудка, словно кто-то перебирал ее медленными огромными пальцами, и от этих тяжелых звуков выдавливались в океане черные ямины, а в ночных небесах проносились вырванные из океана огромные космы воды.
В коридоре, за дверью, кто-то прошел, шаркая и прихрамывая. Послышалась негромкая испанская речь.
Он снова сдавил веки, и в глазницах медленно взбухало: краснота, дым, плеск огня, черный каркас стропил. Удивился этому темному чертежу еще не сгоревших балок, который он не запомнил на пожаре, но глаза сами сфотографировали резкое перекрестье стропил и теперь, задним числом, возвращали изображение. И вслед за графикой врезанных друг в друга балок, окруженных рыжим лохматым огнем, стали открываться другие огни и пожары. Бескрайнее, расширяющееся пространство охваченных огнем континентов, по которым все эти грозные годы он двигался, скрывая личину разведчика. Врывался на стреляющем бэтээре в горящие кишлаки. Спасался от разъяренных мусульманских толп Кабула и Кандагара. Смотрел, как падают от пуль погонщики верблюдов, расстрелянные у саманной стены. Стоял перед грудой черепов на вязком болоте в предместьях Пномпеня. Присутствовал на допросе пленного «кхмер руж» во вьетнамской контрразведке, харкающего кровью на кафельный пол. Уклонялся от взрывов артиллерии на рисовых полям Батаммбанга, где взлетали в небо бурлящие фонтаны грязи, и убитые волы лежали, словно огромные фиолетовые зерна фасоли. Помнил, как на желтой заре летели черные стрекозы вертолетов ЮАР, накрывали тростники секущим огнем, и в горящих трескучих зарослях горела убитая партизанка, сквозь истлевшее платье взбухла ее ошпаренная грудь с дымящим черным соском.
Картины разгромленных городов, расколотых мечетей, сгоревших пагод. Оплавленные транспортеры и танки, рухнувшие на склоны гор вертолеты. Мертвецы, лежащие на земляных полах моргов или завернутые в мятую серебряную фольгу, как запеченная рыба. Операционные столы, на которых корчились растерзанные молодые тела, и звук отсеченной стопы, брошенной хирургом в ведро. Изнасилованные женщины с пулевыми отверстиями в головах, бесстыдно опухшие, в синяках и ссадинах ноги. Мужчины, подвешенные на крюках, от которых к земле тянулись кровавые слюни, вываливались из распоротых животов малиновые георгины кишок, покрытые сонными мухами, отяжелевшими от трупного сока.
Зрелища шли бесконечным валом, словно его завертывали в огромный, пропитанный кровью ковер, и не было сил дышать, в легкие набилась зловонная, кислая, черно-красная шерсть, и он задыхался, выпучивал обезумевшие глаза. Видел черные перекрестья коврового орнамента, повторявшего рисунок горящих стропил на сегодняшнем пожаре в Коринто.