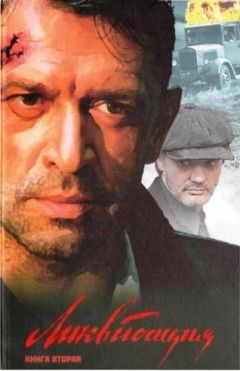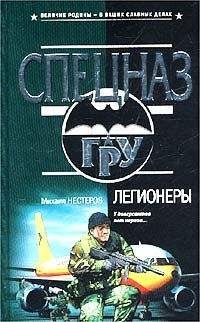Михаил Рогожин - Из России за смертью
Тяжесть от затылка накатила на веки, и непонятно почему потекли слезы. То ли от джина, то ли от обиды. Найденову надоело притворяться и оправдываться.
— Слушай, не поверишь. Сколько раз приходил к ней, и ничего между нами не было.
— Не дала?
— При чем тут это? Она другая.
— Других не бывает. Значит, испугалась.
— Чего?
— Что не сумеешь.
Найденов хотел возмутиться, но слова подполковника больно растеребили глубоко затаенные подозрения. А если правда? Если Ана подумала, что его нерешительность от неуверенности в себе? Ведь когда они ездили на озеро, это должно было произойти. Они стояли возле водопада. Брызги разноцветными иголками кололи лицо и руки. Майка, плавно обтягивающая ее грудь, намокла, и Ана сняла ее. Найденов впервые без всякого стеснения смог разглядеть ее небольшие круглые груди с торчащими вверх крупными коричневыми сосками.
Окруженные загорелой кожей, они казались двумя трогательными, только что родившимися зверятами. Найденов не мог оторвать глаз. Ана засмеялась и медленно стащила с себя джинсы вместе с трусиками. Движения ее были столь грациозны, легки и по-детски естественны, как будто она хотела показать майору одну из своих диковинных статуэток. Найденов без всякого сексуального прилива удивился золотистому треугольнику волос, слабо прикрывавшему розовую кожу.
Ана бросилась в воду рядом с водопадом. Найденов, видя, как кокетство перешло в безрассудство, испугался за нее. Он быстро разделся, лишь на секунду замешкался при мысли снимать плавки или нет. И не снял. Теперь-то он отчетливо понял глупость своей стыдливости. Ана ждала от него действий, решительности, а он, изнывая от желания, болтал про какую-то чушь, про опасность купания возле водопада...
Майор растерянно посмотрел на подполковника.
— Нет, бабе сперва нужно доказать, что у тебя с этим делом полный порядок. Прижать ее невзначай, чтобы наткнулась. Или лучше, как я. Берешь ее руку и кладешь раскрытой ладонью на бугор. Ну, это к слову. Продолжай, как там было дальше.
— Чего продолжать? Говорю же — ничего не было.
— Уж не стихами ли вы занимались? — не унимался Рубцов. Он был в благостном расположении духа и расслаблялся от сознания, что каждому бабы пакостят по-своему. Вот и бедняге майору «динамо» скрутила, а теперь ей-то наплевать, а человек на всю жизнь может остаться с пятном на биографии.
— Почти угадал, — задумчиво ответил Найденов, — мы разговаривали.
— Все время?
— Говорила в основном она, а я слушал. Ты не представляешь, как, оказывается, хорошо разговаривать с женщиной... то есть не просто говорить... беседовать.
— Ты чего? Со всеми беседуешь?
— Нет. С ней, Аной, первый раз в жизни. У меня вот жена есть, Тамара. Так мы, кажется, последнее время и не здоровались. Не потому, что в ссоре. Просто все время видим друг друга, какое уж тут здрасте? Вот спроси, о чем я с ней все эти годы говорил — не помню. И она не помнит. Дело не в забывчивости. Ведь помню же, о чем сам с собой разговариваю. А с ней — не помню. Ты, к примеру, знаешь, о чем мужчина с женщиной разговаривают?
Вопрос застал подполковника врасплох. Он взглянул на Найденова растерянным взглядом салаги.
— О чем, о чем, — медленно повторял он и пожимал плечами. — Наверное, про деньги. Или, ежели жена, то все больше про хозяйство. Опять же, чего купить. — Рубцов продолжал пожимать плечами и склонял голову клевому плечу, словно из-за спины ждал от кого-то подсказку. Потом вдруг воодушевился и убежденно ответил:
— Кого ни спроси, чаще всего ругаются промеж собой.
— А мы с Аной беседовали.
— О чем?
— Она историк, увлекается религией. Много знает об ангольских племенах. Представляешь, португалка, молодая, красивая, а живет в Уамбо, потому что собирает материал по распространению религии на юге Африки.
— Какая ж тут религия? Народ социализм строит. Ей в ЮАР надо.
— При чем здесь социализм. Она здорово рассказывает. Оказывается, Ангола — древняя страна.
— Мы древнее, — не согласился Рубцов. — А вообще должен предупредить, ученые бабы все двинутые. Была у меня одна такая учительница.
Химичка. Хлебом не корми, дай поговорить. И постоянно про Менделеева. Про то, как ему, бедненькому, таблица круглые ночи снилась. Я ее не перебивал, пока закусывал, а потом молча брал за передок и в койку. Про химию забывала мгновенно. Иногда, правда, чужим именем называла. Но, может, так Менделеева звали? А спросить неудобно. Все же я офицер. Грамотный.
— Э... не про то, — майора мучила абсурдность их диалога. Разве объяснить, с каким восторгом он слушал Ану? Как легко и мягко вылетали слова из ее по-детски подвижного рта. Как часто менялись интонации ее речи. От доверительных, сокровенных до насмешливых и дерзких. После этого он смог бы понять человека, завороженно слушающего в консерватории классическую музыку.
Наверное, она тоже рождает волнение в груди, как голос Аны. Ну разве можно во время такого концерта взять и сделать что-нибудь неприличное? Нельзя. Поэтому он слушал Ану и тихо терял голову. А потом она просила его уйти.
— Сдалась тебе ее ученость. Народная мудрость, сам знаешь: «Какая барыня ни будь, все равно ее... когда-нибудь».
— Не хотел. Рука не поднималась, — соврал Найденов.
— А при чем рука? Не тот в тебе настрой. Но причина известна.
Когда долго без бабы, потом поначалу теряться начинаешь. Голова мешает. Мысли всякие. Опять же опасения — получится, не получится. А как встал на поток, само откуда что берется.
Найденов окончательно разозлился:
— Что ты со своим траханьем понимаешь! У меня жена тоже не первая.
А если разобраться, то женщины-то и не было. Просто телки. Лучше, хуже — не важно. Грудями отличались и жопой. А встретил Ану и понял: женщина — это не баба. Ее изучать нужно.
— Глазами?
— И ушами.
— Тогда лучше в кино иди. Там и расскажут, и покажут. А за такого, как ты, еще и трахнут. Пойми, мы их придумываем. В кино для других, а нормальный мужик каждый раз для себя. Какой желаешь ее, такой и увидишь. В этом вся загадка. Сами себя дурачим. А потом с них же и спрашиваем. А они совсем ни при чем. Кто ж виноват, что ты ее такой придумал? Положим, приходил ты, разевал варежку и слушал ее речи. А другой приходил и трахал. Каждому свое. Встречая новую женщину, понимай, что рано или поздно расстанешься с ней. И бери от нее все, потому что потом станешь ей абсолютно безразличен. Тебя будет грызть обида, а она почистит перья и к новым песням. Это мы каждый раз умираем, а они каждый раз возрождаются. После такого расклада кто кого должен жалеть?
Найденов налил себе джина. Молча, не обращая внимания на подполковника, выпил и тусклым голосом сказал:
— Да, я ее придумал. И лучше уже ничего не придумаю.
— Правильно, — согласился Рубцов, — однажды такое следует пережить. Ерунда. Пойдем в джунгли, разомнемся. Потом все спишется и смоется вместе с грязью. Лично я спать. Никогда так много о бабах не говорил. Слаб в теории.
Подполковник понимающе, а может, скорее ободряюще похлопал Найденова по руке и завалился на койку.
Завтра Найденов увидит Ану. Зачем? Неужели этому сну есть продолжение? Неужели Найденов хуже, чем она о нем думает? Неужели она надеется на продолжение? Какое? У них не может быть продолжения. Почему? Потому что он советский офицер, защитник родины и... дерьмо.
ПРОЦЕНКО
Григорий Никитич Проценко брился с особой тщательностью и удовольствием. За окном, теряя утреннюю свежесть, начинался его любимый день — четверг. Политучеба и хор. Весело урча, электробритва «Харьков» плавно скользила по щекам, не сумевшим даже в Африке прихватить настоящий загар.
Отчего казалось, что лицо Проценко состоит из впадин, более темные края которых составляли нос, брови и тонкий зигзаг губ. Но Григория Никитича его лицо вполне устраивало. Особенно в четверг. Он надевал выстиранную и с вечера выглаженную форму, критически разглядывая каждую складку на брюках. Даже носки и (о чем никому не было известно, но было атрибутом его аккуратности) трусы, и те были выстираны и отутюжены. Тело, ощущающее чистоту белья, подрагивало возбуждающей дрожью. Впереди был его день.
Политзанятия в этот день Проценко проводил на подъеме, в хорошем лекторском стиле. Привычно создавая из отшлифованных словесных блоков воинственную и складную оду всеобщей победе социализма. В остальные же дни Григорий Никитич провоцировал слушателей-офицеров. Он начинал от их имени высказывать кой-какие крамольные мысли и тут же, азартно причмокнув, принимался энергично расправляться с безыдейным собеседником. Он выбирал самого сонного офицера и, глядя в упор в его красные с перепоя глаза, вел непримиримую полемику, выкрикивая цитаты из классиков марксизма-ленинизма и за себя, и за него. Бедолага офицер, зацикленный только на том, чтобы не блевануть от сжимающей горло судороги, невольно вставал и с виноватым видом мотал головой в такт речи полковника.