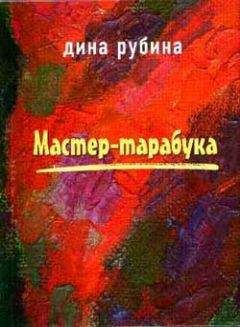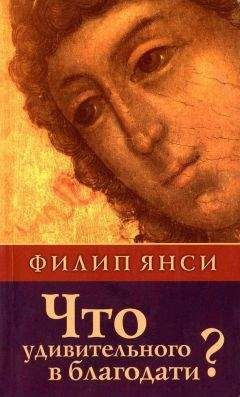Владимир Варшавский - Ожидание
Я открыл глаза. Навстречу, чертя в небе высокие дуги, неслись с того берега золотисто-огненные линии светящихся пуль. Они взвивались и летели с фейерверочно-праздничным, но злым торжеством. С вершин елей на нас посыпались ветки. Снизу, с реки доносился гул многих голосов. Или это только чудилось и Раймон ошибся? Но сейчас же, словно сорвавшись с цепи, яростно захлебываясь железным лязгом застучали наши пулеметы, установленные по гребням холмов, и вдруг стало совсем светло.
Над нами в невообразимой вышине пролетали снаряды тяжелых орудий бельгийского форта и с удаляющимся могучим гулом уносились за вершины гор на том берегу. Все вокруг меня стреляли. Наш пулеметчик трясущимися руками возился с затвором заевшего ружья-пулемета. Наконец, он справился, и с каской, свалившейся на затылок, припал горбоносым лицом к запрыгавшему прикладу.
Я не стрелял. Немцев, которые переправлялись через реку, мы не могли отсюда видеть, а в сплошном лесу на склоне гор на том берегу я не мог определить место, откуда вылетали эти золотые рои светящихся пуль. Я думал — товарищам покажется странным, что я не стреляю, но я не мог заставить себя стрелять вслепую.
Внезапно мы услышали немецкий говор уже не внизу на Мёзе, а на соседнем холме, где только-что стрелял пулемет нашего первого взвода.
— Как они кричат, — огорченно покачал головой наш капрал. И он прибавил, как Раймон: — они поют.
В доносившемся до нас гуле голосов, я улавливал отдельные слова, но не мог понять их значения. Да я тогда еще и не знал немецкого. Мне представлялось: там стоят молодые немецкие солдаты и кто-то, верно офицер, невысокий, уже пожилой, дает им наставления, выкрикивая концы предложений злорадным голосом школьного учителя.
— Ну, теперь мы попадем под перекрестный огонь, — сказал капрал, надевая ранец. Он полез в гору. Я чувствовал недоумение.
Все это было так непохоже на мои ожидания.
* * *Мы шли теперь по дну лесного оврага. Ноги мягко ступали по шуршащим прошлогодним листьям и перегнившему валежнику. В вершинах деревьев свистят пули, а здесь тихо и сумрачно, пахнет сыростью. Местами сквозь редеющую листву пробиваются солнечные лучи. Я следил, как шедшие впереди товарищи вступали в эти полосы света и вдруг, как из опрокинутого короба, их осыпал ливень золотых пятен. Потом они опять входили в сумрак и цвет сукна их шинелей гаснул, становился почти черным.
Лес внезапно кончился, мы вышли на проезжую дорогу. Около отпряженной белой артиллерийской лошади стоял солдат в синих штанах, заправленных в голенища резиновых сапог. Он смотрел на нас с беспокойством, видимо, не зная, что теперь делать, но ничего не спросил.
Встряхиваясь на ухабах, проехал автомобиль Красного Креста. Ветер трепал полы белого халата стоявшего на подножке военного врача. Он смотрел вперед и на его лице хлыщеватого французского офицера было высокомерное выражение, как бы говорившее: «Я должен вывезти раненых и мне нет дела, что там, куда мы едем, стреляют немцы».
Мы остановились около какой-то длинной изгороди, заросшей пыльной крапивой. Здесь собрались солдаты разных рот нашего батальона. Потом из леса вышли еще солдаты. Они шли кучей, молча. У них были изнуренные лица, как у людей, сделавших длинный переход.
— C’est tout ce qui reste de la compagnie, — сказал, качая головой, шедший впереди широкоплечий сержант. — Ah, du beau travail![25]
Двое вели под руки знакомого мне солдата. С бледным испуганным лицом, он шел осторожно передвигая ногами, словно прислушиваясь к чему-то важному и значительному, что происходило внутри него. На спине у него была в шинели круглая дырка.
Называли раненых и убитых, среди них Лоренса, Ляпорта и еще одного знакомого мне солдата, похожего на метиса. Это еще усилило в мне возбуждение от горделивого сознания, что я побывал в настоящем бою. Именно так и должно было быть на войне — убитые и раненые.
В толпе я увидел Ормана. Левая рука его была на повязке, глаза оживленно блестели, с его помолодевшего лица сошла одутловатость. Смотря на его перевязанную руку, забыв о нашей ссоре, я сказал с восхищением и завистью:
— Ты ранен и остался в строю!
— Пустяки, царапина, — не в силах удержать довольную улыбку, ответил он мне таким же дружеским тоном.
Нам приказали построиться. Лейтенант Колизе, держа в руках ружье-пулемет, сказал Прево:
— Сержант, вы поведете взвод.
С забившимся сердцем; я понял, что Колизе хочет остаться прикрывать отступление батальона. Это было так замечательно, так соответствовало моим детским представлениям о геройстве, что я предложил Раймону остаться с Колизе. Я даже не спросил себя, имею ли я право ему это предложить, ведь я думал, мы останемся на верную смерть.
Колизе долго не соглашался, чтобы мы с ним остались. Но мы доказывали, что ему нужен будет заряжающий. Наконец, он согласился и я видел, ему было приятно, что мы не захотели оставить его одного.
Маленький, всегда веселый и доброжелательный сержант Прево пожал каждому из нас руку и сказал на прощанье:
— Я тоже хотел бы с вами остаться, но не могу бросить взвод.
Остальные с любопытством, не то одобрительно, не то насмешливо, молча на нас смотрели.
Они ушли и мы остались втроем. Мне было грустно, что вот уже конец. Так скоро он наступил. Мои мечтания так и не сбудутся: подвиги, приезд в отпуск в Париж, с орденской ленточкой на груди, встреча с какой-то женщиной, которая будет меня любить. Мне нечего было вспомнить. Только раз, когда на рассвете я приехал из Бретани в Париж, недалеко от вокзала уже немолодая проститутка, с вытертой лисицей на плечах, с обычным «tu viens, chéri?[26]» заглянула мне в лицо с удивившим меня выражением нежности. И это было все и вот теперь — конец.
Мне было грустно, что я умру здесь, вдали от моих друзей. Мне казалось, если бы они могли меня теперь видеть, мне было бы легче. Когда мы говорили о высоких предметах, о Боге, о справедливости, я всегда боялся, что ввожу их в заблуждение. Они, может быть, думали, — я такой же чистый и жертвенный человек как они сами. Так хорошо было бы, если бы они узнали, что, несмотря на мою малодушную и порочную жизнь, я пошел на верную смерть за Правду. Мне хотелось, чтобы все это видели: все женщины, не влюблявшиеся в меня, и все мужчины, считавшие меня ничтожеством. А здесь меня никто не знает, я умру в неизвестности, напрасно.
Я думал об этом с тяжелым и грустным, но не лишенным какой-то горестной услады чувством отрешенного ожидания смерти. Но в то же время, я ни на минуту не переставал заботиться о том, какое впечатление я произвожу на Колизе и Раймона и мне доставляло удовлетворение, что я, как мне казалось, говорю и держу себя спокойно.
Мы установили ружье-пулемет на пригорке, наведя его на мыс леса, где дорога, по которой мы пришли, сворачивала. Оттуда должны были прийти немцы, чужие люди, враги. Я буду стрелять в этих посторонних мне людей, а потом они безжалостно меня убьют. Мне было страшно и скучно об этом думать. Все мое существо противилось этому с такой силой тоски, что, вопреки очевидности, я говорил себе: «Нет, не может этого быть, разве это обещано человеку, разве этого я ждал?» А между тем, я видел, что это неотвратимо будет, уже началось и нельзя спастись.
Над нами медленно и низко пролетел немецкий истребитель. Мне показалось, что он, человек, который сидел в его голове, увидел нас и усмехнувшись: «ага! вот, где вы притаились», полетел дальше.
Когда замер вдали гул мотора, я с удивлением заметил, как вокруг было тихо. Высоко в синеве майского неба плыли белые облака. Все было пустынно. Как я попал сюда? Как, в сущности, все это странно. Кто мог бы предсказать, когда я родился в Москве, что я буду убит в Бельгии в шинели французского солдата?
Не узнавая местности, я смотрел на уходившее к Мёзе какое-то лиловое кремнистое плоскогорье. Я раньше не замечал его. Это вовсе не Бельгия, а какая-то древняя необитаемая страна на Луне или на Марсе, где нет жизни. Я чувствовал теперь, как все объемлет равнодушная, всегда бывшая, несуществующая бездна. Мне было странно, что я буду убит в этой бездыханной действительности, которая не имела никакого отношения к моей жизни.
Я чувствовал мучительное сожаление. Теперь, когда было поздно, жизнь казалась такой желанной: ведь могли бы быть, как у других людей, успехи на житейском поприще, любовь, творческий труд. Счастье — быть, дышать, видеть, чувствовать. Как же я пропустил все это, и вместо наслаждения каждым мгновением были долгие годы отчаяния, унижений, бедности и неудач, ни одного дня счастья и удовлетворенности. А теперь я умру, ничего не исправив и ничего не узнав. И как я мог обманываться странной мыслью, что меня не могут убить и что смерть мне не страшна, как другим людям.
Я смотрел на дорогу, и вдруг мне показалось, что кто-то вошел в пустой дом, стоявший ниже на косогоре. Я видел это только самым краем глаза, может быть, мне это только померещилось, но на всякий случай я сказал Колизе.