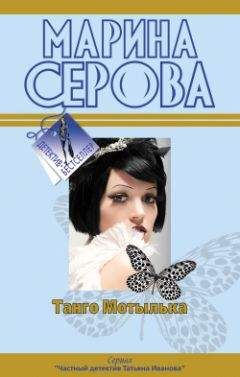Елена Крюкова - Аргентинское танго
Она тоже подалась вперед, задрала ногу, согнула ее в колене и положила Киму на бедро. Он весь дрожал от несбыточного. Когда-нибудь это должно было сбыться. Вот так, здесь, в лесу? В двух шагах от дачной пирушки? От его сына, смеющегося, пьющего водку за накрытым под соснами столом?.. Со сколькими мужчинами она была в жизни? Он не хотел этого знать. Последним был даже не его сын. Последним был его шеф, Беер. Ну и что. Это было на его глазах. Чудовищно, дико. Но это не меняло дело. Ее месяц не было в Москве, она уезжала отдыхать на море. Какая же она смуглая, как персиковая косточка. И пахнет персиками и вишнями. И немного — апельсинами. Он крепко взял ее за лодыжку, потом за щиколотку, приподнял выше ее ногу, сам слегка присел, направил свой горящий, истекающий живой смолой факел туда, в ее разверстую тьму.
Ее стон. Ее стон сквозь зубы. Похоже, она не ожидала, что он такой большой и раскаленный. Он… обжег ее там… внутри?..
И не успел он вонзиться в нее глубже, глубоко, до самого ее женского дна, он только вошел в нее, разрывая ее там, в невидимой и сладкой тьме, делая ей больно, понимая, что то, что они делают, — больно для всех, преступно и безвыходно, как она забилась на нем, как животное, пораженное на охоте метко брошенным копьем, забилась и закричала на его горячем копье, живая, счастливая, несчастная, радостная, умирающая, — они оба не поняли, что с ними, и оба, схватясь друг за друга, вцепившись друг в друга, содрогались, испытывая в один миг то, что не повторится потом ни с ними, ни с кем другим на всем свете. Ибо дающий любовь — любовь и получает. Берущий любовь — со своею любовью одинокий и остается.
Не ослабевая, он, держа ее, легкую, под мышки, насаживал ее на себя, все двигаясь и двигаясь в ней, и она, теряя сознание, назвала его в сумасшествии страсти: «Иван…»
— Я не Иван, я Ким, — прохрипел он, — Ким, слышишь… И ты — теперь — моя…
Она, закрыв глаза, одною ногой стоя на сухих, гладко скользящих под стопой сосновых иглах, другой — обвив его талию, впустившая его внутрь себя, улыбалась. Потом закусила губу до крови. Слезы заструились по ее щекам. Он понял, почувствовал в наступившей ночной темноте, что она плачет. Слизнул слезы с ее щек. Выдернул себя из нее. Застегнул ширинку. Опустился опять на колени. Нашел губами ее лоно, прижался ртом и языком к вершине перевернутого нежного треугольника, набухшего внезапной, порочной страстью, еще пахнувшего им самим — терпко, горько, соленым морем.
НАДЯКрасочки… гримы… блестки… гели… Персиковые шампуни, накладные ногти, синяя и зеленая махровая тушь для ресниц — парижская… Духи от Черрути… Духи от Фенди… А эта помада, просто так бы живьем и ел ее, очаровательная помадка, цвета спелой сливы, она так идет к ее губам… И к моим?!.. И к твоим тоже…
«Ах, девочка Надя, чего тебе надо?.. Ничего не надо, кроме шоколада…»
Ах, девочка Надя, так что же тебе в самом деле надо? У тебя прекрасная служба. Масса провинциалок мечтают о таком месте. И масса москвичек. А ты? Архангелогородочка, как там на Севере погодочка?.. Давно ли ты с Севера дикого сюда, в столицу, ломанулась?.. И неплохо, надо отметить, ломанулась, особо удачно… Хорошие курсы визажистов закончила… И платила, надо сказать, не так дорого… Мамушкины, бабушкины денежки, за всю жизнь скопленные, за иконой в красном углу в избе спрятанные, — за полгода растрясла… А они там, бабенки-то ее северные, шепчутся, плачут, крестятся-молятся: у, наша девонька, наша свечечка, в Москве устроилась, лишь бы счастьице нашла, никаких денежек не жаль, все, все отдадим, душу положим…
Как это бабушка шептала, молясь? «Душу положить за други своя»?.. За кого она душу положит?.. За друга?.. Ну да, за друга… Друг милый, друг сердечный…
Друг сердечный спит с другой. Друг сердечный и не подозревает, что он любим больше жизни. Друг сердечный — слишком высоко летит, он орел поднебесный, яркая звезда, знаменитость, а ты ему кто? А ты козявка на капустном листе, гусеница-закорючка, шавка подзаборная. Он тебя в упор не видит. Ты же хотела из-за него броситься под поезд, Надюша, дура. Под электричку. Возле платформы Левобережная, где ты снимаешь комнатенку. Возле дубовой рощи, что осенью становится такой пронзительно, щемяще золотой.
Вот так, красочки мои, помадочки. Вот так, милые. Ну и что, что он на меня и не смотрит! И не посмотрит никогда! Хозяйка, конечно, красотка. Куда мне до нее. Зеркало отражает меня, уродку. Несчастную птицу с длинным кривым носом. Несчастную козу с кривой козлиной мордой, со скошенной вбок козьей улыбкой, и кажется, вот-вот я заблею перед зеркалом: «Бэ-э-э-э». Маманя, я тебя не виню, что ты меня такую родила. Ты ж сама раньше все твердила мне: «С лица воду не пить, Наденька! Не родись красивой, а родись счастливой! Ты будешь счастливой, дочушка, вот увидишь, будешь…» Жду-пожду, а счастья все нет и нет. Москва все съела, поглотила. Я думала: Москва — это счастье. Кто здесь живет — уже и счастлив. А когда пожила здесь — ух, нажилась!.. Намыкалась… С этой чернявой испанкой, танцоркой — мне повезло…
Тебе не повезло с ней, Надька. Ты же ненавидишь ее. Ненавидишь. Когда-нибудь ты убьешь ее. Ты не выдержишь.
Или лучше — уйти? Убежать? Рассчитаться?
И потерять место, да… Такое хорошее место…
Не место. Нет. Возможность видеть его. Друга сердечного. Ее сердечного друга. Этого… хлыща… нахала… гада… Иоанна. Господина Метелицу. Красавца Ваньку. Хотя бы раз в день. Хотя бы раз в неделю. Раз в месяц — когда он в своей шикарной машине заезжает за ней, черной испанской вороной, ее хозяйкой, чтобы везти ее на концерт.
Однажды он подарил тебе духи, Надька. Такие хорошие французские духи. «Черрути 1881» — было написано на коробочке. Очень маленькая коробочка, и духи, наверное, подумала ты тогда, на вес золота. Интересно, продаются на вес золота индийские слоны? Ты тогда еще, тупая деревенщина, не знала, что в таких крошечных флакончиках продаются пробные духи. Так называемые «пробники». Чтобы попробовать: подойдет тебе этот запах или не подойдет.
«Осторожно, двери закрываются! Следующая станция Ховрино!»
Ого, Ховрино. Скоро мой Левый берег. Я живу на Левобережной рядом с Домом художника. Беспокойный домишко. Все девять этажей ночью гудят. До пяти, до шести утра. Свет горит, гитара брякает, песни доносятся, пьяные вопли и выкрики; на балконы выбегают художники, их жены, их натурщицы, их чада и домочадцы, то хохочут во все горло, то матерятся, то бутылки со звоном вниз бросают, то зимой, в Новый год, елку, всю в горящих свечах, на балкон выволокут и любуются. Что, если бы кто-нибудь из пьяных художников написал мой портрет? Я лучше убьюсь насмерть, с девятого этажа брошусь. Нарисуют уродину — для страху, что ли? Кому уродина нужна? В какой музей? В музей уродов, что ли?
А может, такой музей на свете и вправду есть? Смех смехом…
Нет, я не уродина. Я ничего себе выгляжу, если подкрашусь. Если подмалююсь так, как я — подмалевываю — ее… Ее, Марию Альваровну, черную галку, жердь худую… Не бреши, она не жердь, у нее классная фигурка, все у нее на месте, и бедра, и попка, и грудь… и нос… и губы…
Ерунда все! Я просто успокаиваю себя. Никакая краска не изменит длинный нос и кривой рот. Бледные, как у чахоточной больной, щеки еще можно подмазать румянами. Бесцветные глаза увеличить, притемнить тенями. Козявочный росточек — подправить высокими, как ходули, каблуками, толстыми «платформами». Но чем ты подправишь всю себя?! Всю себя, испорченный, комом, первый блин?!
Первый — и последний… У твоей маменьки ведь больше не было детей там, в деревне под Архангельском, никого не было, кроме тебя… Тебя-то с трудом выродила… Они с бабкой в тебе — души не чают… Ты для них — красивее всех… Они и не подозревают, как ты бьешь, колотишь себя в грудь перед зеркалом, как яростно щиплешь веснушки на скулах, на лбу, на носу…
Кап, кап — две слезы — на кожаную сумку. Крепче держи сумку, когда носишь, к животу, к груди прижимай, у бедра не мотай. Сейчас ловко крадут денежки, вмиг кошельки вынимают, а сумочку чик — и разрежут, оглянуться не успеешь. И плакала твоя зарплата месячная тогда. И в Архангельск матери ты уж тогда ничего не пошлешь, ни копейки. Получать баксы от этой красивой танцующей собаки и менять их, кусая кривые губы, на рубли — на Ленинградском вокзале, на Ярославском, в тесных смешных, как мышеловки, обменных окошках! Разрежут сумку… разрежут… крепче держи…
Разрезать бы ей лицо, сволочи. Все в кровь порезать. Кухонным ножом, тесаком. А потом — тем же тесаком — под ребро.
«Осторожно, двери закрываются! Следующая платформа Левобережная!.. Граждане, просим вас соблюдать в вагонах чистоту и порядок!.. Торговля с рук в вагонах электропоездов категорически запрещена!.. Налагается штраф в размере…»
Протолкнуться к двери. Народу сегодня битком. Как в праздник. Кто наложит на нее штраф и в каком размере за черные, тяжкие мысли? Скорей домой, в бедняцкую квартирочку, в тесную каморочку. Там пахнет из подвала гнилым и сладким. Там на стене висит архангельская северная икона красно-зелено-золотого новгородского письма, что с собою в Москву дала ей бабка. Надо встать на колени перед иконой и помолиться. Одинокие люди должны молиться. Одинокие девушки не должны торчать возле гостиницы «Интурист» на Тверской, вылавливая себе любовь на одну ночь. Ну и что, что у них больше баксов, чем у нее? Зато у нее — честно заработанные. Богоматерь на иконе нежно улыбается ей, а глаза у нее плачут. Красный хитон горит, как костер. Младенец на ее руках, весь в золотых пеленах, с лицом старика, поднимает два коричневых пальчика вверх, пронзает ее глазами навылет, как двумя пулями. А она все мелко крестится, бормочет молитвы, какие знает, а потом плачет, трясясь плечами, уткнув лицо в маленькие, как рыбки, ладони. Визажистка знаменитой танцовщицы Марии Виторес ночами плачет перед старой северной иконой, как круглая дура, потому что любит безответно того, с кем Мария летает по свету, как большой золотой махаон, гребя деньги лопатой в подол. Все врут сериалы. Богатые не плачут. Плачут только бедные несчастные уродки. Зачем тебе чужая земля, Надька? Вали-ка ты отсюда на свой Север. Он тебя и согреет, ледяной родной Север, и приютит.