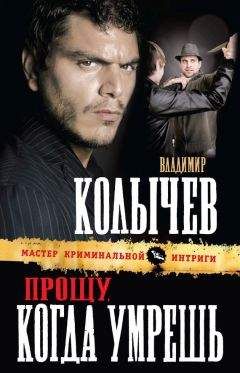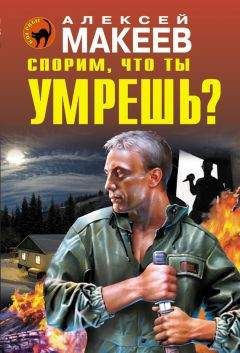Время ацтеков - Лорченков Владимир Владимирович
– От математики до медицины, – прикрываюсь я научными достижениями человечества, зная, что это нечестно.
– Эй, эй, – смеется она.
– Ми-и-илый, – тянет она.
– Не стоит прикрываться научными достижениями человечества, – говорит она.
– Это нечестно! – восклицает она.
– Мы не рассматриваем необходимость науки как таковой, – безжалостна она.
– Я для этого чересчур глупа, я же обычная медсестра, помнишь? – смеется она.
– Мы говорим об одном, отдельно взятом молодом человеке, – говорит об одном, отдельно взятом молодом человеке она.
– Ничем толком не занятом, но вполне устроенном, – перечисляет она, – который даже не ученый!
– Ты даже не ученый, мать твою! – перевешивается она.
– Ты, мать твою, об этих своих ацтеках только в книжках и читал, – морщится она.
– Ну и что? – устало спрашиваю я.
– Да девяносто процентов моих сверстников мечтают о том, чтобы так устроиться, – говорю я.
– И устраиваются! – развожу руками я.
– Зато это дает мне возможность ЖИТЬ, – говорю я.
– Не тратить себя на восьмичасовой онанизм так называемой мыслительной работы или на восемь часов рабского труда медсестры, – пытаюсь я быть жестким.
– А жить, – ликую я, – гулять, думать о том, что мне интересно, разговаривать, смотреть, дышать, трахать, в конце концов, трахать тебя! – кричу я.
– Спасибо, – смеется она.
– Но мужчина, у которого нет цели, – говорит она.
– Тускнеет, – сожалеет она.
– Отсюда и эта твоя страсть к постелькам погорячее, – подмигивает она.
– Чем преснее жизнь, тем больше хочется подперчить ее, и там, – похлопывает она себя по лобку, – особенно. Правда?
– А, – машу я рукой.
– Мужчина без цели тускнеет, как меч, не вынутый из ножен, – суровеет она.
– Ну, или, возвращаясь к теме ацтеков, – говорит она, – как жертвенный нож, так и не попавший в грудную клетку человека.
– И ты сам это знаешь, – торжествует она.
– Я сам это знаю, – признаю я.
– Вполне возможно, мне еще предстоит узнать себя, – говорю я.
– Вполне возможно, – грею я «Отвертку», – я смогу писать.
– Или что-то в этом роде, – рассуждаю я.
– Я жила с писателем, ни черта у тебя не получится, – качает она головой.
– Проза – это ад, говорил он и, ей-богу, был прав, – вспоминает она.
– Только забывал добавить, что это ад для всех вокруг того, кто эту прозу пишет, – говорит она.
– Плевать, я для примера, – говорю я, – картинки рисовать, что-то делать в общем, а пока я ни черта не делаю, и меня это устраивает, – упрямо говорю я.
– Ох, – роняет она стакан.
Стекло осыпает ее башмаки, и я наклоняюсь, чтобы поцеловать носок Жениной туфли. Она с удовольствием подставляет ногу. Может быть, у меня получится научиться любить – как дело своей жизни, думаю я. Меня бы за стакан давно уже выгнали, но что-то в глазах Жени, что-то мерцающее, что-то от обсидиана, ножей и плясок у костров вокруг подножий пирамид, – что-то заставляет бармена скакать вокруг нее, источая запах желания.
– Ах, мальчики, – роняет она еще и слова.
– Вот из-за того, что вам нечем заняться, – сожалеет она.
– Вы и вырезаете друг другу сердца, – говорит она.
У меня сжимается сердце.
Бармен, мудак, смотрит на нее с обожанием, и я ревную.
– Я ревную, – сообщаю я ей.
– Это хорошо, – говорит она.
– Значит, ты еще не потерян, – сообщает она.
– Это ты о чем? – спрашиваю я.
– Пьяного скандала не избежать, – хихикает она.
– Извини, – говорит она и рукавом промокает губы.
– Говори уж, – прошу я.
– А разве ты сам не понимаешь? – улыбается она.
Я вдруг понимаю. Ты ненастоящий, мерцают ее глаза, и я очень отчетливо представляю себе полную Луну и понимаю, что наступило полнолуние. Наступило? Интуиция меня всегда подводила. Но не сегодня. Нет. Луна устроила прилив моей крови. Она поднимается все выше. Я сглатываю и чувствую соль на губах.
– Я-то ненастоящий? – почему-то вслух спрашиваю я, хотя она-то ничего такого не сказала, по крайней мере вслух.
– Конечно, – спокойно кивает она.
– И убеждаешь себя в обратном, – говорит она.
– Для ненастоящего я трахаю тебя чересчур задорно, – смеюсь я.
– Вот видишь, – спокойно говорит она.
– Пытаешься убедить, и еще как, – говорит она.
– Будь ты настоящим, ЖИВЫМ человеком из плоти и крови, с сердцем в груди, – объясняет она.
– Тебе бы не требовалось подстегивать себя всей этой эквилибристикой в постели, – говорит она.
– Которая есть не что иное, как стремление сесть на грудь другому живому существу и вырвать, пусть и образно, его сердце, – усмехается она.
– Еще тебе бы не было нужды в поясе из женских скальпов, – объясняет она.
– Ты ведь вовсе не бабник, – полуспрашивает она.
– Всего лишь пытаешься убедить себя в том, что ты такой, потому и носишься по бабам, – говорит она.
– А все почему? – спрашивает она.
– А все потому, – отвечает она.
– Что тебе нужны регулярные доказательства своего существования, потому что ты не уверен в том, что оно есть, – кивает она.
– Нужны, как прокаженному – боль, – сравнивает она.
– Как голодному еда, – ошибается она.
– Как вампиру кровь, – поправляется она.
– Как божеству жертва, – говорит она.
Я говорю:
– Между прочим, я тебе еще ни разу не изменил.
– Это временно, – машет рукой она.
– Пока не приелась, – объясняет она.
– А потом ты или будешь мне изменять, или я стану жить с совершенно ненастоящим человеком, – предсказывает наше будущее она, глядя в зеленый стакан как в жертвенное болото с ядовитыми испарениями.
– С вампиром, который типа бросил это грязное дело, – вещает она, – и принципиально пьет только крысиную кровь, – смеется она надо мной.
– Но вампиром от этого быть не перестает, – говорит она.
И качает головой, вглядываясь в стакан.
– О нет…
Она выпивает еще что-то и глядит в угол заведения, где та самая красивая девушка говорит в мобильный телефон что-то раздраженное и наверняка скучное. Она глупая, понимаю я, и успокаиваюсь.
– Я вот сейчас подойду к ней, – говорит Женя.
– Скажу кое-что на ушко, возьму за руку, – улыбается она.
– И уведу в дамскую комнату, – обещает Женя.
– Вот так, – многообещающе смотрит в угол она.
Девица глядит в ответ, и я понимаю, что сейчас Женя подойдет к ней, шепнет что-то на ушко, возьмет за руку и уведет в дамскую комнату. Вот так, да и шептать-то ничего не надо, дело на мази, думаю я, ха-ха.
– А ты подумай вот над чем, – предлагает она.
– Подумай над тем, что моя теория относительно тебя не так уж неверна, – говорит она.
– Если вспомнить, что значит это чертово слово «ацтеки», – говорит она и уходит в угол, чтобы забрать красивую девицу.
А я остаюсь у стойки размышлять над тем, что значит ацтек.
Кажется, «настоящий человек».
– Стань настоящим, – просит она.
– Я люблю тебя, – вдруг говорю я.
– Я знаю, – едва не плачет она.
– Дай же и мне тебя полюбить, – говорит она.
– Я бы полюбила тебя сильнее жизни, – говорит она.
– Но я прошу тебя, – умоляет она.
– Стань настоящим, – просит она.
– Любимый, – добавляет она.
И проводит рукой по моей щеке. Лицо мокрое. Смущенные, мы молчим. Это похоже на вспышку фосфора. Я снова пытаюсь ощутить то, что почувствовал, когда признался в любви. Что-то ярко-желтое, манящее, с треском прогорающее под ликующие крики китайских фейерверкеров и одобрительный гул толпы, ворох огней в небе, что-то прогорающее у тебя на глазах и в них самих. Так вот, что это такое – любовь?
Мы недоуменно глядим друг на друга, а потом переводим глаза на стойку, где лежат, сцепившись, какие-то два предмета.
Мы видим, что держимся за руки.
Пока моей возлюбленной, которой я собираюсь посвятить остаток своей жизни – в печали ли, радости, в жертвенном ли упоении, – нет в баре, я выпиваю еще и еще и пытаюсь анализировать ситуацию.