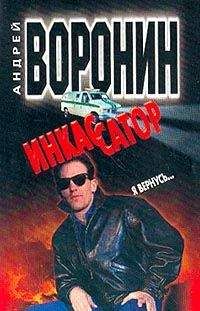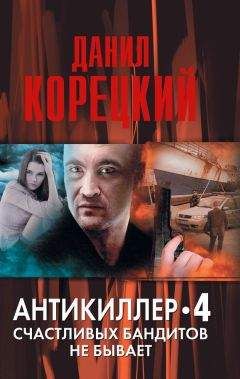Андрей Воронин - Спасатель. Жди меня, и я вернусь
«Замнем для ясности», – сказал доктор Васильев, и, судя по его дальнейшим действиям, именно так он и собирался поступить. Он явно не сомневался в своем диагнозе – обширный инфаркт – и постарался до прибытия начальства и полиции устранить все посторонние, могущие послужить поводом для кривотолков и не имеющие прямого отношения к смерти Шмяка предметы и явления. Разумеется, изъять из желудка и кровеносной системы мертвеца находящийся там алкоголь было не в его силах, но Олег Борисович, похоже, рассчитывал, что Семен Тихонович предпочтет закрыть на это глаза и не устраивать дознание. Женька случайно подслушал обрывок разговора между Васильевым и Ирочкой, состоявшегося примерно за час до прибытия возглавляемой грейдером процессии. «…Не мое дело, – вполголоса, но с большим напором говорил Олег Борисович. – И уж подавно не твое. Ни от чего он здесь не лечился, даже и не собирался. Кто платит, тот и заказывает музыку – известен тебе такой перл народной мудрости? То-то, что известен! Платил он, как я понимаю, от души и на этом основании делал, что хотел. Да, напился, поймал белочку, разворотил всю палату и дал дуба. И что? Помер и помер, все там будем. Наше дело – не дать ищейкам и журналюгам распугать всех остальных клиентов – как потенциальных, так и кинетических. Ферштейн зи, майне либэ?»
Ставший случайным свидетелем этого разговора Женька все это очень даже ферштейн, и не просто ферштейн, а горячо одобрял. Их с матерью благополучие, какое ни есть, в данный момент целиком зависело от процветания пансионата и доброго расположения к ним со стороны главного врача. В свете этого предложенная доктором Васильевым версия – припадок буйства и инфаркт на нервной почве – его полностью устраивала, поскольку избавляла пансионат он возможного громкого скандала и потери клиентуры, а его самого – от ненужных расспросов. Тем более что все почти наверняка именно так и было – именно напился, именно до белой горячки… ну и так далее.
В противном случае получалась полнейшая ерунда. Если Шмяк умер не сам, а с чьей-нибудь помощью, значит, в его комнате пошуровал кто-то другой. Памятуя о подобранном в коридоре первого этажа универсальном ключе, Женька мог с большой долей уверенности предположить, как этот «кто-то» проник в двенадцатую палату. Более того, он догадывался, что именно этот таинственный «кто-то» там искал. Он даже мог предположить, кто он, этот «кто-то», вернее, не он, а она. Анна Дмитриевна Веселова, парализованная бабуся из четвертой палаты, прибытие которой так напугало Шмяка, – вот кто. А что? Она приехала сюда лечить не ноги, а нервы; проверить, парализована она на самом деле или нет, здешние доктора не могут, да и зачем им это нужно? Кто платит, тот и заказывает музыку – ферштейн зи, майне либэ? Зато, если вдруг выяснится, что с инфарктом Шмяку помогли, на нее, прикованную к инвалидному креслу, никто не подумает. Потому что с моторчиком или без въехать по лестнице на второй этаж она никак не могла…
Все это здорово отдавало бредом, напоминая одну из не слишком правдоподобных детективно-приключенческих историй в исполнении покойного Шмяка. Что бы там ни говорил доктор Васильев и сколько бы Женька с ним ни соглашался, Шмяк был тот еще псих. И за воротник, между прочим, закладывал так основательно и регулярно, что на его месте до белой горячки допился бы любой, даже тот, кто до поступления в пансионат капли в рот не брал. Спору нет, бабуся в инвалидном кресле здорово его напугала. Но, во-первых, он сам говорил, что мог обознаться. А во-вторых, кто знает, кого ему напомнила эта несчастная парализованная тетка – может быть, просто одно из его бредовых видений?
Словом, считать, что Шмяка прикончил коньяк, а не какая-то фантастическая псевдокалека, было и спокойнее, и разумнее. В конце-то концов, парализованная или нет, она – просто пожилая дамочка, тощая, как велосипед, а Шмяк был здоровенный мужик, способный одним щелчком расшвырять в разные стороны десяток таких моторизованных ниндзя на колесиках. Да и помер он, как ни крути, не от ножа или пули, а от инфаркта. Женьке приходилось слышать о существовании препаратов, способных вызвать инфаркт или острую сердечную недостаточность. Еще он слышал, что обнаружить эти препараты в крови покойника практически невозможно, и в этой информации содержался весьма прозрачный намек: хватит выдумывать ерунду, все равно никто этого не проверит и не докажет. Тем более что доказывать, скорее всего, просто нечего…
Устав мысленно гонять по кругу одну и ту же чепуху, Женька принял соломоново решение: сперва поглядеть, как будут развиваться события, а уж потом решать, говорить кому-нибудь о своих подозрениях или не говорить.
Прибытие полиции его слегка напугало, но случившаяся поблизости повариха тетя Таня объяснила, что это стандартная процедура: когда человек приказал долго жить при не до конца выясненных обстоятельствах, при освидетельствовании тела должен присутствовать участковый – а вдруг убийство?
Прибывший на санитарном «батоне» врач из районной поликлиники подтвердил диагноз доктора Васильева – обширный инфаркт – и засвидетельствовал отсутствие на теле следов насилия. Участковый мент в чине капитана – длинный, худой, полусонный мужик с тяжелой, как у боксера, скверно выбритой челюстью, – узнав, что первым труп обнаружил Женька, изъявил желание с ним поговорить. Судя по этому разговору, менту (назвать его полицейским не получалось даже мысленно, уж очень был непохож) все было понятно без дополнительных разъяснений и наживать себе проблемы, вынюхивая по углам то, что было понятно не до конца, он не собирался. Он выполнял скучную рутинную работу, от которой не удалось отвертеться, и показания Женьки, главным образом утверждение, что утром, когда он принес Шмяку завтрак, дверь была заперта изнутри, а в палате все было как сейчас, его полностью удовлетворили, подтвердив, что расследовать тут, слава богу, нечего.
Скользкий вопрос о том, как Женька проник в запертую палату и где взял ключ, участковый поднимать не стал, а сам Женька, глядя на него, почему-то решил промолчать. Шмяк утверждал, что родственников у него нет; скорбеть о нем и мстить за него некому, а неприятности, связанные с расследованием уголовного дела, пансионату ни к чему.
И вот тут, утаив важную для следствия информацию об универсальном ключе, всю ночь пролежавшем на полу в коридоре первого этажа, Женька Соколкин вдруг словно проснулся, а проснувшись, кое-что вспомнил и осознал.
Про отданный ему Шмяком на хранение конверт он помнил все время и сейчас вспомнил не про него, а про напутствие, которым Шмяк сопроводил процесс передачи конверта из рук в руки. Когда «если что» случится, ты это заметишь и поймешь, сказал Шмяк. И тогда действуй не как сопливый пацан, а как взрослый, серьезный мужик, герой приключенческой книги или статьи Спасателя. Действуй по обстановке – вот как он сказал. И еще: это важно, по-настоящему важно.
И, вспомнив этот разговор, Женька неожиданно для себя осознал, что уже начал действовать именно так, как велел покойный Борис Григорьевич Шмаков – по обстановке.
Оставалось выяснить только одно: насколько правильным был избранный им образ действий и насколько серьезными могут оказаться последствия в случае, если с выбором он все-таки ошибся.
3Примерно через полтора часа официальные лица освободили пансионат «Старый бор» от своего присутствия, а заодно и от покойника. Участковый инспектор полиции, скучая, составил протокол, из которого явствовало, что никаких улик, свидетельствующих о насильственном характере смерти, он не обнаружил. Правда, был еще пистолет, который не рискнул припрятать даже предприимчивый доктор Васильев, но в бумагах покойного обнаружилось разрешение на ношение оружия и свидетельство об его регистрации, а вопрос о том, как Шмяку удалось протащить боевой ствол в медицинское учреждение, не стоило и поднимать: захотел и пронес, что ж его – обыскивать?
Словом, хоть капитан этого и не говорил, было ясно, что царящий в палате номер двенадцать разгром его ничуточки не удивил: за годы службы в небольшом поселке он явно навидался еще и не такого. Пистолет он изъял, после чего запрыгнул в «бобик» и укатил, пристроившись в хвост санитарному «батону», куда уже загрузили упакованное в черный пластиковый мешок тело Шмяка.
Следующий час Женька Соколкин провел в комнате умершего, помогая матери ликвидировать царящий там невообразимый кавардак. Он порядком взопрел, гоняя со второго этажа на задний двор, где стояли баки для отходов, с туго набитыми мусорными пакетами в обнимку. Во время очередного рейса его окликнул выглянувший из своего кабинета Семен Тихонович, главврач. За ничтожный промежуток времени, прошедший с момента отъезда участкового и труповозки, он волшебным образом успокоился и подобрел. При более близком контакте выяснилось, что от него сильно и знакомо попахивает коньяком Шмяка, чем, по всей видимости, и объяснялось его неуместно ровное и где-то даже приподнятое настроение. Сквозь открытую дверь кабинета стоящему в коридоре Женьке был виден доктор Васильев, который сидел сбоку от стола главврача и курил, катая в пальцах пузатенькую рюмку с остатками коричневатой жидкости на донышке. Тут все было ясно и, с точки зрения Женьки Соколкина, вполне нормально: худой мир лучше доброй ссоры. Да и было бы из-за чего ссориться!