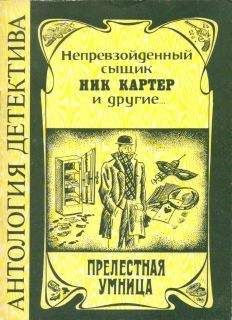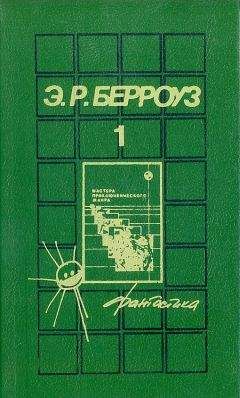Анатолий Афанасьев - Гражданин тьмы
Подлетел официант в шотландской юбочке и пробубнил обычную фразу: "Будете заказывать или по схеме?" — которая требовала никакого ответа. Через минуту подал тарелку овсяной каши, политой светло-зеленой жидкостью, заменяющей масло, горбушку черного хлеба, присыпанного белым порошком, но не сахаром, стакан брюквенного сока и на отдельном блюдце плавленый сырок, который нужно не жевать, а сосать. На вид завтрак выглядел вполне прилично, хотя те, кто попадал в эту столовую, редко справлялись с едой с первого раза. Однако позже входили во вкус и требовали добавки, никогда ее не получая.
Я с наслаждением проглотил пару ложек каши, по вкусу напоминающей кирзу, заправленную горчичкой, как вдруг за столом появилось прелестное создание — блондинка лет двадцати пяти, явно новенькая, в мешковатом комбинезоне песочного цвета, с вытаращенными от изумления глазами и мокрыми, беспорядочно торчащими в разные стороны волосами. Не надо большого ума, чтобы догадаться: новобранка только что прошла первую дезинфекционную помывку и еще плохо соображала.
— Извините, — обратилась ко мне глуховатым, приятным голосом. — Не скажете, который теперь час?
Как сторожил я не должен был вступать с ней в беседу и просто показал кисть, на которой не было часов. За нарушение неписаных правил могло последовать любое наказание, вплоть до сверхурочной трепанации черепа, но обыкновенно все оканчивалось пустыми угрозами старшего наставника. Я не ответил вразумительно не потому, что боялся, а из-за какого-то неожиданного для себя самого злорадства: дескать, выпутывайся сама, красавица.
Подлетел официант со своим дежурным вопросом, и тут девица проявила себя с блеском.
— Какая схема, болван?! Тащи чего-нибудь выпить, да поживей!
На резкий окрик оглянулись все, кто находился поблизости, и даже Чубайс замедлил ритм совокупления и выронил из пасти шмоток ботвы. Официант побежал к окошку раздачи и вернулся со стаканом брюквенного сока и тарелкой каши. В его глазах, одурманенных вечным отсутствием затеплился намек на живое чувство.
— Хозяин — барин. Извольте кушать. Новенькая понюхала тарелку:
— Что это?
— Как заказывали. Омлет с ветчиной и бренди. Из всего персонала хосписа, к слову сказать, официанты — самые безобидные существа. Их контактные программу предельно ограничены, да и готовили их из вторичного сырья, из тех, кто не годился для размножения. Наставник Робентроп в порыве откровенности как-то похвалился, что из одного интеллигента, как правило, выходит не меньше десяти официантов, то есть по затратам это самый дешевый товар, проблема в том, что на мировом рынке сбыта официанты не пользуются спросом, выгоднее производить даже охранников. Но будущее, как уточнил Робентроп, скорее всего, за серийным производством человеческих полуфабрикатов. Так или иначе, но на нашего официанта было жалко смотреть, после того как девица, вторично понюхав кашу, со словами: "Ах это омлет?!" лихо влепила тарелку ему в морду. Бедный юноша неловко вытер с глаз зеленоватую жижу.
— Не положено, — сказал грустно, переступив с ноги на ногу. — Нас нельзя обижать. Мы не виноватые.
— Принеси нормальной жратвы, дебил, — распорядилась девица и, обернувшись ко мне, добавила как ни в чем не бывало:
— Ну и порядочки тут у вас! Как в тюрьме.
Я, прекрасно зная, что произойдет дальше, тупо прогудел:
— Чего надо, а?
По залу прокатилось нехорошее возбуждение. Чубайс со своей дамочкой задергались в диких конвульсиях, со столика Путачихи донеслось визгливое песнопение: "Арлекино значит смех!" Официант бочком, бочком скрылся на кухне. Мне все это ужасно понравилось. Неужто и я был таким же, как эта девица, всего несколько дней назад? Нет, она была лучше, она была прекрасна — и знала это.
— Вы только мычите? — спросила новобранка. — Или иногда разговариваете?
— У-у, — сказал я. — Вкусно!
В дверях замаячили дежурные санитары.
— Меня зовут Надин, а вас?.. Да брось ты свою помойку, старикан. Объясни, что здесь происходит? Где я?
Ох как хотелось поговорить с ней, но я не мог рисковать.
Слишком много сил потратил на то, чтобы стать таким — счастливым и с тайной в душе. Сейчас я не мог ей помочь.
— Кушай тюрю, Яша, — продекламировал я с умильной гримасой. — Молочка-то нет.
— Что за бред? — спросила Надин презрительно. — Вам нравится изображать придурка?
Юное лицо пылало праведным гневом и недоумением, а рука судьбы уже протянулась к ней. Санитары, что-то жуя на ходу, приближались. Столовая отрешенно чавкала. С кухни донесся истошный вой официанта, как будто его окунули в кипящий котел.
— Держись, — произнес я, почти не разжимая губ. — Держись, девочка. Вдруг уцелеешь.
Двое санитаров в тельниках выдернули ее из-за стола, как репку из грядки, хохоча, поволокли из столовой. Один тянул за волосы, другой поддавал носком под ребра. Последний раз сверкнули остекленелые девичьи очи. И такая сразу навалилась пустота, что есть расхотелось. Вяло добрал остатки каши и обрадовался, когда ко мне вдруг подсел Курицын. Никогда прежде он этого не делал.
— Что ж, сударик мой, любезнейший Натан Осипович, допрыгались, кажется, голубчик?
— Почему?
— Дак все видели. Надоумили хулиганку фортеля выкидывать, с вас и спрос.
— Не надоумливал, — возразил я. — Вообще первый раз ее вижу.
— Ой ли? Про вас давненько слава идет. Дескать, неугомонный вы человек. С Анатолием Борисычем соревнуетесь по дамской части. К лицу ли вам это как бывшему Лаперузе.
— Что с вами, Олег Яковлевич? — обиделся я. — Какой я Лаперуза?
Писатель поправил ворот арестантской блузы, посуровел.
— Попрошу вернуть, сударь мой!
— Что вернуть?
— Книгу, переданную для ознакомления. Жалею об этом. Видно, не в коня корм. Еще потянут с вами за компанию.
— Так я же не дочитал.
— И не надо дочитывать. У вас и времени теперь нет.
— Хорошо, сейчас принесу.
Накаркал, старый ворон. Не успел подняться к себе, в коридоре наткнулся на старшего наставника. Громадный аки шкаф, локтем задвинул меня в угол за неработающие телевизор. Всем туловищем ходил ходуном.
— Не подведите, сэр. Богом Христом молю.
— Рад стараться, господин Робентроп. А что надо сделать?
— Сам приехал. Немедля желает вас видеть. Я сразу понял, о ком речь. Гай Карлович Ганюшкин директор «Дизайна-плюс», мифическая личность. Вот и грянул судный день. Ну и хорошо.
— Не понимаю вашего беспокойства, господин Робентроп. — Я попытался уклониться от вращающихся, как поршни, конечностей. Не раз, бывало, неосторожным движением он выбивал у меня кровь из сопатки.
— Ответственейший момент, сэр! Ответственейший! Босс — великий человек, отец родной. Это надо восчувствовать. Но мы еще не готовы показать товар лицом. Я понимаю, отчего такая спешка. Мерзкие, подковерные интриги, им надо, чтобы я оплошал. Фактически это заговор. И знаете ли, сэр, кто за ним стоит?
— Зиновий Зиновьевич, может, пройдем в комнату? Так вы меня совсем затолкали.
— Заткнитесь, сэр!.. Если подкачаете, нам обоим несдобровать. У босса голубиное сердце, но с лоботрясами он беспощаден. Иначе нельзя. Иначе начнутся разброд и шатания, как в прежние времена.
Я видел, что наставник не в себе, но не понимал, чего он боится, что могло грозить ему, давным-давно перевоплощенному. Этот вопрос сам собой сорвался с языка.
— Расчлененка. — На мгновение он перестал дергаться. — Переход в новую конфигурацию. Много мук. Очень много мук. А из-за чего? Да все из-за того, сэр, что поганый япошка норовит повсюду расставить узкоглазых. Он, видите ли, не доверяет аборигенам, мы в его представлении недочеловеки. А сам-то он кто? Ну скажите, кто он сам-то?
— Господин Робентроп, — я удачно увернулся от пролетевшего мимо уха локтя, — скажите, чего вы от меня ждете, и я сделаю все, что в моих силах.
— Ничего не надо делать. Первая готовность. Абсолютная невменяемость. Будьте самим собой, сэр.
— Понял. Не извольте сомневаться, сэр.
Вместе поднялись на третий этаж, в заповедные места.
Если кого-то туда уводили, обратно он уже, как правило не возвращался. Охранник в холле, которого я прежде не видел, огромный негр в форме американского морпеxa велел поднять руки и обоих прозвонил миниатюрным приборчиком на эбонитовой ручке. После чего забрал у меня сигареты, расческу и очки.
— Очки-то вам зачем? — заблажил я, но Робентроп пребольно двинул коленом под зад.
Через минуту очутились в кабинете, который поражал роскошью обстановки: старинная мебель из черного дерева, ковры, аглицкие гардины на окнах, на стенах развешены портреты американских президентов, включая почему-то царя Бориса. Народу — битком, и в основном знакомые лица: координатор Джон Миллер, притулившийся на подоконнике, японский товарищ Су Линь, директор хосписа Харитон Данилович Завальнюк, которого я видел первый раз, но узнал по портрету, стоящему в комнате у Макелы с Настей: они перед сном на него молились. Был еще знаменитый телеведущий с рыбьими усами и со сладкой фамилией, штук пять распутных девок, известный во всем мире преступный авторитет Барковский, находящийся вроде бы под следствием в Матросской Тишине. Блудливо, как всегда, улыбающийся руководитель фракции "Правый кулак" Немчинов, почему-то обнаженный по пояс, еще несколько незнакомых, судя по осанке, влиятельных и важных господ; и среди всех, естественно, выделялся сам Гай Карлович — и благодаря тому, что восседал во главе длинного, с мраморной столешницей стола, и из-за своей примечательной внешности: смуглая, свекольного цвета морда с угольно-черными маленькими глазками и воткнутым в нее бледно-голубым носярой, постоянно к чему-то принюхивающимся. Конечно, как и все россияне, я знал, что это лишь одно из обличий великого человека: внешность он менял так же часто, как политические взгляды, но с этой ипостаcью показывался на людях довольно давно, с тех пор как после выборов нового царя резко переместился из либерального крыла в ультрапатриотический лагерь.