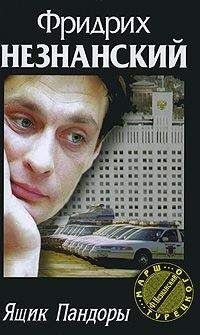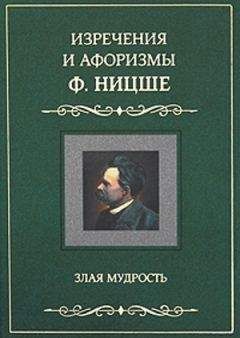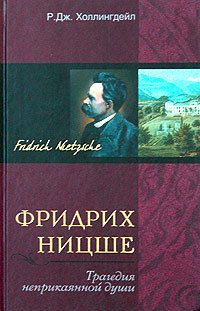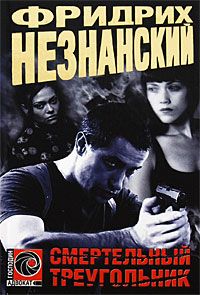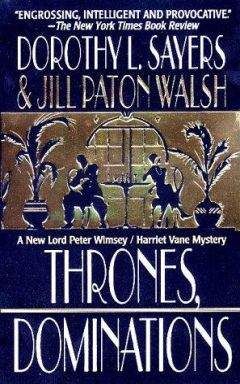Фридрих Незнанский - Бубновый валет
Вход в подъезд ограждал домофон. Все, как положено.
— Пани София Голота? — спросил Турецкий, нажав кнопку напротив нужной квартиры. — Моя фамилия Турецкий, я хотел бы побеседовать с вами о художнике Шермане…
— Заходьте, будьте ласка… то есть заходите, пожалуйста, — охотно, даже слишком охотно отозвался женский контральтовый голос, и домофон запищал сигналом, позволяя войти.
— А правильно все-таки, Сашка, — прокомментировал Грязнов, отмеривая ногами длинный пролет на лестнице, покорябанные перила которой поддерживались фигурными основами, — ввели на Украине это обращение: «пан», «пани». Ну, им легче: у них Польша под боком, а в Польше «панами» друг друга величали даже при социалистическом строе. А у нас, хоть тресни: «мужчина», «женщина»… Так, пожалуй, и не удастся нам с тобой при жизни побыть в России полноправными господами.
Откликаться на «мужчину» Турецкому тоже не нравилось, но он считал, что господином человека делает не обращение.
— Что такое, вот беда: все полезли в господа. И при этом ни один сам себе не господин, — процитировал он. — Это, Слав, какой-то немецкий классик написал, мне Нинка вслух прочитала…
У двери на четвертом этаже дискуссию о господах вынужденно прервали. В ответ на звонок дверь моментально распахнулась: пани Голота подкарауливала в прихожей. Она оказалась дамочкой лет шестидесяти с солидной комплекцией гоголевской Солохи и чрезмерно приветливой улыбкой на не по возрасту малиновых губах. Голота проводила гостей в комнату, заставленную всякими вазочками, шкатулочками, статуэточками, и там, усадив на старый кожаный диван, к которому они сейчас же прилипли брюками, принялась с удовольствием завзятой болтушки отвечать на их вопросы.
Пана Бруно Шермана она помнит. Помнит, как дразнили его во дворе дети: «Оврияш! Оврияш!» — и разбегались, стоило ему на них взглянуть своими белыми глазами. Оврияш — так называется великан в местных сказках. Бруно был высокий, и глаза уж очень пронзительные. Во время войны, в начале июля, его увели немцы, и вроде бы он пропал. А зимой 1941/42 года Любка, что сидела с ней в школе за одной партой, выдала секрет. Оказывается, он живет у ее матери, тети Фимы, пишет портрет жены коменданта. Только тс-с! Она бегала к Любке в гости, и там они подсмотрели… вот ужас! Картину, которую Бруно писал с комендантши. Такая страшная!
— Чем же она вас пугала? — невольно удивился Турецкий. — Обычный портрет женщины с детьми…
— А так вы про ту, что в музее? Та — нет, та не страшная. Но была и совсем другая картина.
— Какая? — уточнил Турецкий. Спина у него похолодела от предчувствия. Он ощутил, как рядом напрягся Грязнов.
— С адом и с ангелом. Самый настоящий ад, посредине гора… Что такое? Вам плохо? Принести воды?
— Нет, пустяки… Очень жарко… Да, если можно.
Воду Турецкий выглотнул единым махом, не разобрав, была она из-под крана или минеральная.
— Опишите, опишите эту картину! Где вы ее видели? Когда?
…В тот день девочек рано отпустили из школы: учительницу вызвали в комендатуру для заполнения каких-то документов. Маленькой Софке не хотелось идти домой, игры на свежем воздухе тоже исключались из-за того, что резко похолодало и в лицо хлестала снежная колючая крупа, поэтому она обрадовалась, когда одноклассница и подруга Любка позвала ее в гости. Тетя Фима, Любкина мама, позволила им играть в куклы возле печи.
«Только по дому не бегайте, — предупредила она. — Из комнаты ни шагу».
Любка подмигнула Софке, и та понимающе улыбнулась в ответ. Конечно, это из-за оврияша, который теперь снимает комнату у Любкиной матери.
Девочки сами не горели желанием встречаться с оврияшем. Их тряпичные дочки наряжались, ходили друг к другу в гости, церемонно пили чай из довоенного набора кукольной посуды. Тетя Фима, убедившись, что они тихо играют, ушла стирать белье. Тут Любке приспичило на двор. Возвратилась она с круглыми глазами.
«Софка, скорей! Там такое!»
Софка подумала, что подружка ее разыгрывает, но непритворное волнение Любки передалось и ей. Вдвоем они на цыпочках выбрались из комнаты и прокрались в конец коридора, где у тети Фимы был чулан…
— Кладовка со всякой всячиной? — уточнил Грязнов.
— Кладовка. Только не со всякой всячиной, а пустая. На полу кисти, банки с краской. Я даже не поняла, что Любка хочет мне показать, как она меня в бок ткнула: «Задери голову!» Я задрала, и у меня подкосились ноги…
…Это была непередаваемо страшная картина. Настолько страшная, что при первом взгляде невозможно было не зажмуриться. Но потом невозможно было не открыть глаза, и после этого смотреть уже на нее и смотреть, потому что она была прекрасна. Страшная и прекрасная, она впечатывалась в память на всю оставшуюся жизнь, и по сей день пани София не в состоянии забыть того, что было изображено на прикрепленном к потолку холсте.
Центральная часть представляла собой знаменитую львовскую гору, нарисованную одновременно условно и так, что девочки ее сразу узнали. По склонам горы спускались обнаженные, окутанные длинными черными волосами еврейские девушки. Страдание изуродовало их лица, превратило в обезьяньи мордочки — тем более человеческими и скорбными смотрелись огромные плачущие глаза. Вереницы девушек погружались в подземные области, похожие на ячейки сот, где пылали топки печей. И среди всего этого мрака и ужаса реял на фоне горы ангельский лик. Лицо белокурой женщины и одновременно лицо ангела. Рядом с ним два ангелочка поменьше, словно бы мальчик и девочка. Это была не просто картина, это было окно в другой, самостоятельный мир, и Софке показалось, что он сейчас обрушится на нее и раздавит.
Тут в коридоре раздались шаги оврияша. В панике девочки бросились бежать. Софке мерещилось, что оврияш, если догонит, сотворит с ними что-то жуткое, свернет шеи, как цыплятам, или утащит в нарисованный на потолке ад. Сейчас-то она понимает, что преследуемый еврей-художник должен был бояться этих детей больше, чем они его…
Турецкому не надо было сверяться с каталогом произведений Шермана, чтобы сообразить, что ничего подобного описанной картине нет ни в одной коллекции, ни в одном музее мира.
— И вы столько лет молчали об этом шедевре? — спросил он. — Не обращались ни в Львовскую картинную галерею, ни к специалистам?
— Позвольте, — возмущенно вздернула подведенные карандашом брови пани Голота, — я лишь недавно узнала, что нашего оврияша за рубежом признали великим художником. К тому же детские воспоминания… вы знаете, какие они расплывчатые! То ли было, то ли не было, не разберешь.
Повисло неловкое молчание. Пани Голота, исчерпав сведения, чего-то ждала.
— Ну, — первой прервала она затянувшуюся паузу, — какова ваша цена? Те, которые приходили перед вами, заплатили мне сто пятьдесят долларов.
— Перед нами? А кто к вам приходил? — дуэтом завопили Грязнов и Турецкий.
— Ну откуда же мне знать? Тоже двое мужчин. Назвались непримечательными русскими фамилиями, вроде бы Иванов и Петров. Документов своих не предъявляли, так же как и вы, панове…
— Как они выглядели?
— Совершенно разные. Один такой подтянутый, худощавый, интеллигентный. В очках с позолоченной оправой. Другой — ну вылитый бандит! Бритоголовый бандит. На лбу, вот тут, шрам треугольный, вроде как кожа была содрана.
— Во что одеты?
— Интеллигентный — во что-то серое, бритоголовый — в светлое… Нет, не помню! Я плохо разбираюсь в мужских модах.
— Когда они приходили?
— Вчера, с утра. Примерно в то же время, как вы.
— Слава, — сказал Турецкий, — возмести пани Софии текущие расходы.
— На всякий случай, — посоветовал Грязнов, отсчитывая деньги из командировочных, — не открывайте больше дверь всяким русским и нерусским мужчинам. И молчите про картину на потолке, как до сих пор молчали. Мало ли что.
Грязнов и Турецкий скатились с лестницы, будто за ними черти гнались.
— Куда мы бежим? — отдыхиваясь на ходу, спросил Слава. Генеральское брюшко и любовь к пиву не способствовали марафонским забегам.
— Домой, — не останавливаясь, просветил его более тренированный Турецкий. — То есть к Васильевне.
— Зачем?
— Выяснить, что случилось с картиной на потолке.
Марафонский бег на многолюдной львовской улице плавно перетек в ходьбу, правда для Славы Грязнова тоже достаточно марафонскую.
— Эта картина не значится ни в одном каталоге, — продолжал давать пояснения Турецкий, — а значит… значит, можно предположить, что она так до сих пор и висит на потолке, замазанная белилами.
— А все-таки зачем?
— Откуда мне знать, зачем? Может, художник хотел скрыть свое произведение.
— Нет, бежим-то мы зачем? Ну, висела она на потолке чулана лет сорок или сколько там, не может еще час или два повисеть?