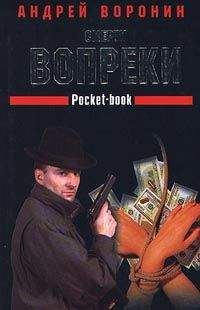Андрей Воронин - Между жизнью и смертью
— Банда, да выключи ты эту балалайку! — закричал он, стараясь перекричать Расторгуева. — И сдалась же тебе эта «Любэ»! Тоже мне, группу нашел!
— Мне нравятся некоторые их песни.
— Ну сделай потише.
— Я тогда могу заснуть.
— А пошел ты!.. Мне что, с тобой тоже бодрствовать прикажешь?
— Ничего страшного, если и не поспишь, — вступился за Банду Сергей, одним глазом испуганно косясь на спидометр на щитке приборов. — Представляешь, если на такой скорости он вдруг уснет?
— А чего так нестись? — не унимался Коля. — Что там, в Одессе, горит что-нибудь?
— Да ты уже свою Динку не видел целую неделю! — возмутился такой наглостью Бобровский. — Это ли не повод поторопиться слегка?
— Не тебе о ней беспокоиться.
— Ох-ох, посмотрите на него!
— Да между прочим, это я вас на это дело позвал. Мог бы и не говорить вам ничего, сами бы разобрались вместе с Диной. А то теперь возись с вами, чекистами…
— Ну ты, «чека» не трожь, ясно? Тебе оно что-нибудь плохое сделало?
— Лично мне — нет, но как вспомнишь, что ваши коллеги вытворяли на протяжении стольких лет!
— Ваши коллеги! Скажите пожалуйста. А ваши коллеги, журналисты, что, в те времена лучше были? Честно писали обо всем, что творится, да? Или расписывали процессы над «врагами народа», поднимая вой с требованиями смерти шпионам?
— Так если бы не твои коллеги, такого бы никогда не писалось, понял?
— Э! Вы, оба! Тихо! — вдруг заорал Банда, стараясь перекричать их обоих. — А то высажу к чертовой матери! На дело они едут — грызутся, еще до места не добравшись.
Он наклонился к магнитоле и приглушил звук.
— Теперь нормально?
— Более-менее, — все еще недовольно проворчал Самойленко.
— Тогда вот что, — Банда был строг и категоричен. — Надоели вы мне оба хуже горькой редьки. Поэтому приказываю: никому ни слова. Хотите — спите, хотите — нет. Только без этих бабских разборок… Короче, мужики, в натуре, прошу — заткнитесь, а? Мне немного подумать да потосковать хочется. Ладно?
Голос его к концу тирады вдруг стал совсем другим — просящим и грустным… и ребята, переглянувшись и недоуменно пожав плечами, затихли.
Вскоре Самойленко действительно громко захрапел, а минут через пятнадцать сдался Бобровский и, откинув кресло и опустившись пониже, задремал.
Банда остался наедине с ночью, машиной, музыкой и своей нелегкой жизнью.
Нет у меня ничего,
Кроме чести и совести.
Нет у меня ничего,
Кроме старых обид.
Ох, да почто горевать,
Все, наверно, устроится.
Да и поверить хочу,
Да душа не велит…
Да и не тот я мужик,
Чтобы душу рвать…
Да.
Ты помолись за меня,
Помолись за меня…
Часть третья
Запретная черта
I
Я так давно
Не ходил по земле босиком,
Не любил,
не страдал,
не плакал.
Я деловой,
И ты не мечтай о другом —
Поставлена карта на кон.
Судьба, судьба,
Что сделала ты со мной?
Все пройдет, как нечистая сила.
Когда-нибудь
С повинной приду головой.
Во имя
отца и сына…
На воле — день, день.
На воле — ночь, ночь.
И как хочется мне заглянуть
в твои глаза…
С трудом разлепив тяжелые веки. Банда выключил магнитофон и снова упал головой в подушку.
Это было что-то ужасное! Даже музыка, даже напряженный ритм композиций «Любэ» не мог привести его в чувство, не мог, казалось, никакими силами заставить подняться в это проклятое утро.
И все-таки он сел на кровати и тут же застонал, сжав виски руками.
Голова, казалось, раскалывалась на части, перед глазами все плыло, в горле огромный сухой язык стоял комом, не позволяя даже облизать запекшиеся губы, а внутри что-то противно тянуло и дергало, выворачивая желудок наизнанку, и мысль о необходимости что-нибудь съесть на завтрак вызывала ужас.
Банда с трудом встал и добрел до зеркала.
На него смотрело чужое опухшее лицо, поросшее светло-грязной щетиной, мутно поблескивали покрасневшими белками глаза.
«Хорош, ничего не скажешь!»
Банда попробовал рукой расправить свалявшиеся волосы. Перо, вылезшее из подушки и застрявшее в голове, вдруг торчком поднялось на макушке, придавая ему комичное сходство со спившимся индейцем.
Да, они добились своего. Вот он — результат трехдневного беспробудного пьянства. Безобразный, отталкивающий тип, с дрожащими руками и тупым мутным взглядом. Прелесть, а не Банда!
«Господи, видела бы меня сейчас Алина!» — слабо шевельнулась у него в голове мысль, далекая, будто из какой-то другой, чужой, жизни. И касалась она как будто не его и невесты, а совершенно постороннего человека.
Ведь сейчас Банда был классическим, можно сказать, хрестоматийным алкоголиком, пропившим все, что только можно было пропить, и мечтающим только о том, как бы опохмелиться.
«Кстати… — и он двинулся на нетвердых ногах к холодильнику, надеясь найти там специально припрятанную для такого случая бутылку отвратительного одесского пива. — Господи, только бы я ее не вылакал вчера!»
К счастью, пиво оказалось на месте и, моментально исчезнув в иссушенной глотке Банды, на какое-то время принесло облегчение, позволив ленивым мыслям хоть за что-то зацепиться.
— А сколько же интересно сейчас времени? — громко спросил он самого себя, чтобы послушать звук собственного голоса.
Услышанное вряд ли смогло бы порадовать кого угодно — хриплый, надтреснутый баритон напоминал завывания Бармалея из плохой постановки местного радио, которую они с Бобровским слушали вчера, усиленно накачиваясь до состояния зеленых слоников.
— А время уже… Ого! — он даже протрезвел немного, увидев, что часы показывают половину восьмого. — Ах ты блин горелый, так и опоздать можно!..
С трудом напялив на себя старые советские джинсы, вытертую ковбойку и брезентовую ветровку, он выбежал из квартиры, матеря столь неудобный для пьющего человека распорядок работы проклятой больницы…
* * *«Спившийся фраер» — эту роль было решено избрать для Банды после того, как ребята поближе познакомились с порядками в местной системе здравоохранения. Непрестижные и пустующие по всему СНГ места больничных медсестер здесь, в Одессе, были прочно и навсегда заняты. Оказалось, что в этом городе медсестра была богом и царем, пожалуй, куда больше, чем лечащий врач. Именно медсестра в конечном итоге решала, есть у нее такое-то лекарство или нет, стоит ли подойти к роженице или так обойдется, надо ли проверить температуру у час назад прооперированного больного или и без того не сдохнет.
— И що вы такое от меня хотите? У меня тут таких, как вы, полная больница! — стандартная отговорка этих мегер в белых халатах приводила пациентов в уныние, а родственников заставляла изыскивать мыслимые и немыслимые презенты, чтобы приношением хоть чуть-чуть задобрить «богиню», снискать милосердие и внимание к страждущим ее помощи.
— И почему эти люди думают, что мине нужны ихний подарки? Вы що думаете, ему будет от этого легче, що вы мне тут принесли? — жеманясь, выговаривали «богини», пряча «баксы» в необъятные лифчики и засовывая поглубже в такие же необъятные сумки то, что приносилось «натурой».
И тем не менее приношение, как и в старые добрые времена, помогало, и страждущий на время добивался внимания и ухода. Пока «богиня» помнила о подарке. Затем операцию приходилось проворачивать вновь.
В итоге клан этих милосердных вымогательниц оброс такими связями и укрепился такой корневой системой, что выкорчевать хоть одного члена могла лишь смерть или… конец света. Но даже смерть не означала обновления — на смену одной мегере приходила другая, зачастую помоложе, но уж никак не скромнее в своих аппетитах.
Банде с его дипломом Сарненского медучилища и без мохнатой лапы в местном здравотделе соваться в этот клан было совершенно бесполезно.
Единственное, что можно было попробовать, — это устроиться санитаром, ни за что не отвечающим, никому ничего не должным и ни с кого ничего не могущим взять. Прикинуться алкоголиком, которого вконец задолбал участковый, готовым выносить чужое говно за восемьсот тысяч купонов в месяц и лелеять светлую надежду выпить когда-нибудь сотню граммов чистого спирта, поданного какой-нибудь пышнотелой сердобольной зазнобушкой из младшего медицинского персонала.