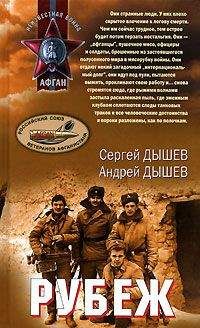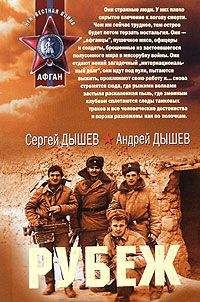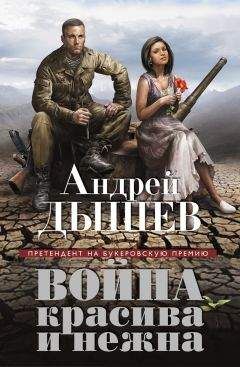Андрей Дышев - Афганец. Лучшие романы о воинах-интернационалистах
— Не растягиваться!! Шире шаг!! — кричали сержанты.
Куда уж шире! Штаны между ног вот-вот лопнут! Земля притягивает, засасывает, высота кружит голову. Уже много прошли. Уже не достанешь взглядом застрявшие где-то позади, в сухом русле, среди крупных речных валунов «бэшки», не разглядишь даже в бинокль раскинувшие лапы гаубицы, и уж, конечно, не мечтай увидеть медицинскую «таблетку», прилепившуюся к командному пункту. Чем дальше уйдешь, тем дольше надо будет возвращаться. А если возвращаться придется с ранением, с дыркой в животе, с оторванной рукой или ногой, с осколком в черепе? Не доберешься ведь живым, это точно, потому как на высоте кровь почему-то вообще не останавливается, хлещет, как вода из прохудившегося крана. Понесут тебя на самодельных носилках, связанных рукав к рукаву из нескольких курток. Шестеро несут, шестеро охраняют. А вокруг жара, воды нет, «носилки» трещат, и ты там весь скрючился, свернулся, и кровь хлюпает под тобой, ткань промокла насквозь, тяжелые капли просачиваются и шлепаются в пыль. А ты в бреду, тебя качает, пот заливает глаза, вокруг какие-то голоса, крики, стрельба и в ушах непрекращающийся противный гул, будто на клавиатуру оргáна положили кирпич: ммммуууууууууииии… Где ты, жив ли еще? Может, уже нести некому, всех перебили, может, ты свалился в сухой ручей, скрючился под камнем и плавающими зрачками пялишься на сухую травинку, по которой ползет муравей… Мамочка, где ты? Ты еще помнишь меня?..
Рота горохом покатилась по дутому, голому и гладкому склону, похожему на ягодицу великана. Бойцы попадали и замерли там, где их застала стрельба. Сверху глянешь на склон, и сердце онемеет от ужаса — похоже, что по склону рассыпаны матерчатые куклы, очень-очень похожие на людей. Лежишь так, приклеившись щекой к песку, и ждешь, когда раскурочат пули твою спину, и ты весь схватился, окаменел, как кусок сырого гипса, а в щеку уткнулась острая соломинка, и выгоревшая, пересушенная земля пахнет пылью, и сердце колотится громко, сильно, бьется в землю: разверзнитесь, врата подземелья, впустите, укройте, защитите!
Нефедов перекинул через голову пулемет, как будто взмахнул из-за плеча колуном, расставил сошки. Пули визжали вокруг него, брызгаясь каменными крошками, плясали, как бабочки, отлетая от валунов рикошетом. Прапор не обращал на них внимания — судьба решит, ужалит его свинцовый шмель или нет, и продолжал готовить пулемет к бою. Руки сильные, большие, похожие на пулеметные детали. Щелк! — крышка поставлена на место. Клац! — передернут затвор, и патрон замер в стволе на стартовой позиции. Прапорщик уже отвык ругаться под обстрелом. Чего зря силы тратить и внимание рассеивать. Только зубы крепко стискивал, концентрировался на оружии, делал все быстро и точно — ни одного ошибочного движения. И вот уже щека прижата к прикладу, глаз прищурен, а указательный палец комфортно устраивается на спусковом крючке. Нет слаще и удобнее позы для прапора Нефедова, чем эта. Ему, наверное, на бабе было бы не так комфортно, чем здесь, на склоне, в обнимку с пулеметом. Ребенок в кроватке под пушистым одеяльцем не так радуется уюту, как прапор Нефедов радуется этому крепкому и доверительному контакту с любимым и проверенным оружием. А вот теперь поговорим! Что за обезьяна посмела пукать по нему из своей поганой винтовки?! Кто это осмелился уложить прапорщика Нефедова на землю?! Вот этого здоровенного дитятю из брянской деревни, который ударом ладони мог свалить на землю развеселившегося телка, от присутствия которого в сельском клубе становилось тесно, и все молчали, если говорил он; которому не было равных в кулачных боях, и несколько раз его пытались убить в пьяных драках — подло, со спины, топором и ножом, да Нефедову все нипочем, на нем все заживало, как на собаке; и ради него девки передрались в четырех близлежащих деревнях — это на него, прапора Нефедова, на великана Витьку пукнуло какое-то тщедушное средневековое ископаемое? Ту-дух! Ту-дух! — открыл он огонь короткими очередями. Ах, как сладка песнь пулемета! Как приятно он оживает, толкается, показывает своенравие! Как сладостно оглушает лязг его могучих деталей!
— Взвод!! — кричал в песок Ступин. — Наблюдать за противником! Первому отделению сектор обстрела… Ай, бля!
Пуля от старого английского «бура» впиндюрилась в камень, рядом с которым он лежал, щелкнула звонко и швырнула в лицо лейтенанту каменную крошку. Получилось, как хлесткая женская пощечина.
«Какое тут наблюдать!» — скрипел зубами Курдюк. Он упал неудачно: бронежилет, не закрепленный тесемками, встрепенулся крыльями и хряпнулся ему на затылок, накрыв голову, как канализационным люком. Ага, противник! Своей руки не увидишь! Кровь выплеснулась в голову, в ушах зазвенело. Баклуха, находившийся выше и правее Нефедова, различил сквозь трескотню автоматов тяжелый тенор пулемета. Ага, старшина уже лупит вовсю! А что ж я сплю? И давай поливать скалы. Куда попало, не глядя, главное, чтобы погуще, поплотнее, чтобы наши свинцовые шмели забодали духовских шмелей, чтобы своими тупыми головками уперлись в их головки и — муу! Назад их, назад!
Черненко не стрелял, лежал неподвижно, изо всех сил прижимая голову к земле. Он будто бодал планету, выталкивал ее с орбиты. Не в меня, не в меня! — молился он, кривя лицо. Все тело дрожало. Он видел перед собой розовый затылок Гнышова. Это хорошо, что Гнышов лежит перед ним. Гнышов сейчас вроде мешка с песком… Поганые, поганые мысли, но никто их не читает, не слышит. Так уж получилось, что Гнышов упал на метр впереди, Черненко в этом не виноват. А умирать сейчас нельзя. Дембель на носу. Столько раз ползал под обстрелом, сколько раз рядом с ним подрывались на минах бойцы, разрывало в клочья «бэшки» и бэтээры, столько раз он таскал раненых, но как-то исхитрялся уворачиваться, сохранять себя. Но понимает же, что шансы выкрутиться, уцелеть с каждым днем падают, что судьбе уж наверняка надоело такое однообразие, и довернет она пульку в его сторону или заставит приподнять голову, чтоб остановить лбом ее полет, и так противно от этих мыслей, от ожидания, что даже тошнит, выворачивает, и реветь бегемотом хочется, и плакать от обиды — не хочу, не хочу, блин! ужас, как не хочу, но по закону подлости сбудется это, сбудется точно, как ни крути! Черненко даже не понял, что плачет; слезы текли по его лицу, а он думал, что это пот.
— Рота, отходи! Отползай вниз, под бугор! — крикнул Герасимов. Он перевернулся на живот и положил автомат на грудь — так легче было поменять магазины. — Только жопы не поднимать!
Поползли тряпичные куклы ногами вперед. Рация гнусавила, требовала доклада. Длинная антенна стегала по спине Абельдинова. «Да убери же ты свою херню!» — обозлился он на связиста. «Куда я ее уберу?!» — кряхтел, обливаясь потом, связист. «В зад себе воткни!» Сержанту было противно и унизительно корячиться на склоне. Он же не сыкунливый «сынок». Он — дембель, «замок», кавалер ордена Красной Звезды! Пусть салабоны раков изображают, а ему по статусу не положено. Абельдинов поднялся на ноги, побежал трусцой по склону, петляя из стороны в сторону. Пули погнались за ним, стали кусать землю рядом. Пыльные фонтанчики взметнулись у самых ног. Не достанешь, душара поганый! Прыжок влево… Не зацепишь, урод! Прыжок вправо… Ну что, съел, дикарь? Моджахед, стреляющий из каменной щели, дышать перестал, язык от усердия высунул, с его кончика слюна сползает — ах, как достать шурави хочет, так хочет, что аж поскуливать начал; и вот еще одна короткая очередь, и еще одна, и мушку в прицельной прорези точнее пристроил, и на фигурку человека навел, в самую серединку, в самую-самую, точно спину, ну же, ну, ну!! Умри! Умри! Умри-и-и-и!!! Странно, что от такого неистового желания ствол не вытянулся, подобно телескопической указке, не ткнул сержанта промеж лопаток: все, больше нет мочи терпеть, сделай одолжение — упади, остынь, окоченей, тебя не должно быть, потому что я этого очень-очень хочу…
— Да пошел ты… — вспылил Абельдинов, развернулся и выстрелил по скалам от бедра. Рот его перекосился, плечи развернулись, черные ровные брови сомкнулись на переносице… Да пошел ты! — нерв дембельской натуры. Да пошел ты! — точка победителя. Да пошел ты! — ответ ленивой смелости.
Рота поддержала, оглушительная трескотня разнеслась эхом по ущельям. Бойцы вскакивали на ноги, гремя вещмешками, банками, коробками, посыпались вниз.
— Пошустрее, «сыны»! — крикнул Абельдинов, меняя магазин. Ну вот, все в порядке. Абельдинов стал прежним Абельдиновым, кавалером ордена Красной Звезды, дембелем, непрошибаемым, невозмутимым, закаленным, как кусок горного гранита, как крупнокалиберный патрон. Он вернулся в свою лодку, влез в свой саркофаг. Вокруг него кто-то носится, кричит, вьюжит по склону суета, сверкают перепуганные глаза, прыгают подбородки — все это ужасно некрасиво, постыдно, сопливо. Для дембеля главное — гармония и красота. Вон Витька Нефедов спокойненько идет по склону, лениво так, бочком, словно спускается по крутому берегу к реке, где его ждут компашка, костер, уха и бухло. На плече — ремень, пулемет удобно пристроен на боку, сошки болтаются под стволом, как усы сома. Одной рукой Витек давит на спусковой крючок, обстреливает скалы, а другой помахивает: «Давай, давай, вниз, вниз, не ссы, я прикрываю!» Красиво смотрится с пулеметом — глаз не оторвешь! Прямо завидки берут. Сколько раз Абельдинов просил: Витек, дай хоть раз на войну с пулеметом сходить! Ни хера! Я, говорит, без него сразу подохну.