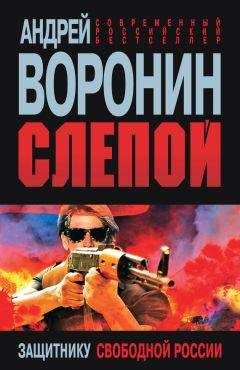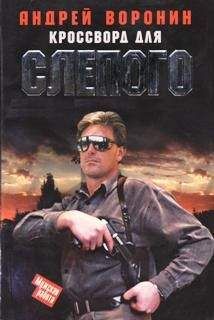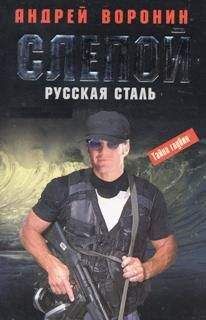Андрей Воронин - След тигра
Потом он вспомнил движение, почудившееся ему в развалинах опустевшего леспромхозовского поселка. Кто это был — одичавшая собака, волк, еще какой-нибудь зверь? Или человек — тот самый, который, если верить Пономареву, всю зиму бродил, принюхиваясь, около его избы?
В лесу вдруг раздался дикий, потусторонний и в то же время совершенно человеческий вопль, перешедший затем в раскатистый сатанинский хохот. Горобец сильно вздрогнула, и даже при свете угасающего костра было видно, как она побледнела. Вовчик одним резким движением уперся руками в землю, будто намереваясь вскочить, Гриша схватился за карабин. Глеб ухитрился сохранить полную неподвижность, но на какое-то мгновение внутри у него все оборвалось. Потом до него дошло, что это была просто ночная птица, но он все равно позавидовал Тянитолкаю, который спал без задних ног и ничего не слышал.
— Филин, — равнодушно сообщил Пономарев, мусоля свою самокрутку.
— Тьфу ты, сволочь какая, — сказал Вовчик, принимая прежнюю позу. — Прямо душа в пятки ушла.
— Что, герой, замочил штанишки-то? — язвительно осведомился Пономарев. — Насмехаться, конечно, проще. Уже успокоившийся Вовчик зевнул, — помотал бородой, тяжело завозился и сел.
— Пионерский лагерь, — проворчал он. — Страшилки на сон грядущий. Черная рука, «отдай мое сердце»…
— Погоди-погоди, — убежденно кивая косматой головой, сказал ему Пономарев, — вот если, даст бог, доберемся до Каменного ручья, будут тебе страшилки. Света белого невзвидишь, умник.
— Слушай, ты, абориген, — начиная злиться, с напором сказал Вовчик и даже подался вперед, как будто собирался прыгнуть на проводника через костер. — Если там так страшно, зачем же ты с нами пошел? Только не говори, что мы тебя заставили. Ты сто раз мог сбежать, однако идешь как миленький. Ну, в чем дело?
— Так ведь одному-то страшнее, — с неожиданной искренностью ответил проводник, — Ведь вы, ребятки, последняя моя надёжа. Меж людей так испокон веков ведется: ты мне поможешь, я тебе… Вам без меня пропадать, а мне-то без вас и подавно! Я ведь, ежели по правде, давно с жизнью распрощался. В долг я живу, понятно? Видел он меня, запах мой знает. Ты пойми, борода: если людоед чей-то след взял, нипочем не отступится, покуда своего не добьется. Это же верная смерть, да такая лютая, что врагу не пожелаешь. А вас пятеро, и все с винтами. Все ж таки какая-никакая, а защита. Кабы не это, ничего бы я вам не сказал. Думаешь, мне интересно насмешки ваши терпеть? Зато теперь ты, борода бестолковая, и товарищи твои тоже, сколь бы ни смеялись, все одно про мои слова не забудете. А не забудете, так, может, и уцелеете. Может, смилуется надо мной Господь, подведет его, аспида, под меткую пулю… Вы, главное, близко его не подпускайте, разговоры с ним не разговаривайте. Запорошит глаза, мозги затуманит, а потом оглянуться не успеете, как от вас рожки да ножки останутся.
— Погоди, Иваныч, — неожиданно вмешался в разговор до сих пор молчавший Гриша. — Ты что же предлагаешь? Получается, если завтра утром, к примеру, нам навстречу из тайги человек выйдет, мы что же — стрелять в него должны? Без разговоров?
— Заговоришь с ним — не жилец ты, — спокойно подтвердил Пономарев. — Именно, что без разговоров. И главное, в глаза ему не гляди. Поглядишь в глаза — считай, пропал. А бить его в голову надо, чтоб уползти не смог. Не то отлежится, а после непременно за тобой придет. Проскользнет промеж сонными, никого пальцем не тронет, а тебя отыщет, и… В общем, лучше сразу застрелиться, самому.
— Ну, Ваня, молодец, — с уважением сказал Вовчик. — Такую пулю отлил, что просто загляденье! Я прямо заслушался, честное слово! Значит, говоришь, как только увидим человека, сразу стрелять? В голову, да? А кол осиновый в него, мертвого, вбивать не надо?
— Смейся, смейся, — сказал Пономарев. — Товарищи ваши, которые в прошлом году на Каменный ручей ушли, тоже, помню, смеялись. Смейся, борода, только, Христа ради, слова мои не забывай. Об одном ведь только я вас, ребятушки, прошу: помните, что разговор у нас был, все время помните! До Каменного ручья полтора дня идти осталось, а там, как ни крути, нам с ним не разминуться. Его это место — Каменный ручей, его логово. И он уж постарается, чтобы мы обратно из тайги не вышли.
Проводник зевнул, потянулся, хрустнув суставами, и завозился, поудобнее устраиваясь на куче еловых веток, заменявшей ему постель.
— Спать я буду, — объявил он. — Полгода с людьми не разговаривал, устал. Прямо язык отваливается, чтоб ему пусто было. Да и уморился я чего-то за день, глаза сами собой закрываются… Горобец встала.
— Иван Иванович прав, — сказала она. — День был длинный, и завтрашний будет не короче. Спасибо за рассказ, Иван Иванович. Вы нас прекрасно развлекли.
Пономарев в ответ только фыркнул, пристраивая вместо подушки свой драный, латаный-перелатанный солдатский вещмешок, в просторечье именуемый «сидором». Он всегда спал снаружи, у костра, игнорируя шикарные экспедиционные палатки с надувным дном и спальными мешками на гагачьем пуху. Честно говоря, это всех устраивало: проводник «благоухал», как куча гниющих на жарком летнем солнце отбросов, да и набраться от него насекомых никому не хотелось.
***
Утром Глеба растолкал Вовчик. Это было странно, потому что Глеб, как самый младший по чину член экспедиции, всегда ночевал с краю, и выбраться из палатки, не разбудив его, было затруднительно. К тому же до сих пор никому из господ ученых не удавалось проснуться раньше Сиверова, а что до Вовчика, тот и вовсе дрых до последнего и утром его всякий раз приходилось чуть ли не волоком вытаскивать из палатки.
Проморгавшись и сообразив, на каком свете находится, Глеб понял, что это была не единственная странность. Солнечный свет, падавший через треугольный проем откинутого полога палатки, был чересчур ярким. Слепой поднес к глазам запястье, посмотрел на часы и удивленно присвистнул: часы показывали четверть одиннадцатого.
— Ого! — воскликнул он.
— Вставай, композитор, — сказал Вовчик.
Он был непривычно хмур и озабочен. Глаза у него были припухшие, на щеке багровела не успевшая разгладиться складка — видно было, что Вовчик тоже проснулся совсем недавно и еще не успел умыться.
— Вот черт, — сказал Глеб, подавляя зевок, — надо же было так проспать!
— Вставай, вставай, — нетерпеливо повторил Вовчик. Глеб присмотрелся к нему повнимательнее, рывком расстегнул спальник и сел. — Что случилось?
— Слинял наш Дерсу Узала, — мрачно сообщил Вовчик. — Свалил, пока мы дрыхли без задних ног, сказочник хренов!
— Ну?!
— Это еще не все. Да вставай ты скорее!
Глеб кубарем, на четвереньках, выкатился из палатки, встал, первым делом нацепил темные очки и огляделся.
Уже успевшее высоко подняться солнце ярко освещало поляну, на которой был разбит лагерь. Посреди поляны виднелось светло-серое с черной каймой пятно потухшего костра. От горячей золы поднимался тонкий голубоватый дымок, собранная вечером огромная куча хвороста за ночь заметно уменьшилась в размерах. На примятых еловых лапах, служивших сиденьем во время ужина, валялся перевернутый, густо закопченный котелок, стопка грязных тарелок, которым к этому времени полагалось быть давным-давно помытыми и упакованными в лошадиный вьюк, стояла поодаль, у корней старой лиственницы. Ни Пономарева, ни его залатанного «сидора», ни старого охотничьего ружья с самодельным прикладом видно не было.
Кроме проводника, на поляне явно недоставало чего-то еще — чего-то важного, хотя и успевшего за время путешествия примелькаться до полной незаметности. Глеб не сразу сообразил, чего не хватает, а когда понял, схватился за голову: вместе с Пономаревым из лагеря исчезли лошади.
— П…дец подкрался незаметно, — констатировал Вовчик с каким-то мрачным удовлетворением, и пристукнул кирпичом. Вот гнида плешивая! Он мне с самого начала не понравился, туземец этот вшивый. Лошадей увел, сука! Ну, и что нам теперь делать?
— Надо будить остальных, — сказал Глеб, озираясь, как будто рассчитывал увидеть где-нибудь за деревом исчезнувшего проводника вместе с лошадьми.
Ему все еще не верилось, что все это происходит наяву, а не в продолжении путаных ночных кошмаров, смутные воспоминания о которых все еще клубились в мозгу. Он чувствовал себя как с хорошего похмелья и никак не мог начать воспринимать происходящее всерьез. Переход от размеренного, не омраченного ничем, кроме обычных бытовых неудобств, походного быта к таинственным исчезновениям, вероломству и мрачным перспективам был чересчур резким, и мозг просто отказывался адекватно реагировать на изменившуюся обстановку. Гораздо проще было предположить, что Пономарев встал раньше других, прогулялся по окрестностям, нашел поблизости какой-нибудь ручеек и решил, пока все спят, сводить лошадей к водопою. Мешок свой он прихватил, потому что чудак — боялся, наверное, что «городские» украдут у него запасные портянки или какие там еще сокровища, что хранились в его тощем «сидоре», — а ружье взял просто по привычке. И потом, куда же в тайге без ружья-то?