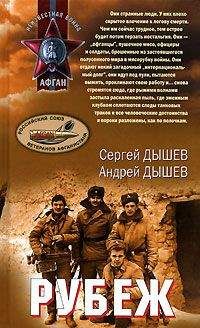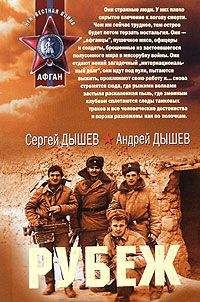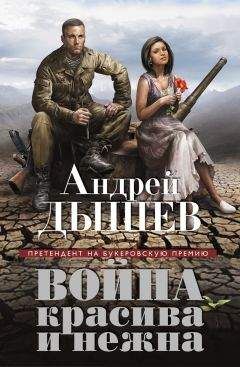Андрей Дышев - Афганец. Лучшие романы о воинах-интернационалистах
— Это уже эротика, Артур Михайлович! — привлекла к себе внимание теща. — Но почему полуобнаженная? Почему не голая?
— Хорошо, голая, — согласился Артур Михайлович.
— Вот так-то лучше.
— Лерчик, ты сколько шампанского сегодня выпила?
— Ну, муха говорит: «Давай третье желание!» Прапорщик думал, думал, долго чесал затылок и наконец выдал: «А пускай будет так, чтобы я ни хрена не делал, но денег до фига получал!» И тут все закружилось, завертелось, и прапорщик снова оказался в Афгане, в душной казарме, на своей койке. Лежит и мух бьет.
Все, кроме краснолицего существа, рассмеялись.
— Смешно? — спросил Артур Михайлович у Герасимова.
— Очень, — ответил тот.
— А что, — спросила теща, выуживая из ломтика селедки косточку. Не совсем было понятно, к кому конкретно она обращается. — Там действительно много получают?
— Как, Валера? — перекинул вопрос Артур Михайлович. — Там много офицеры получают?
— Сто восемьдесят чеков «Внешпосылторга» плюс три оклада в рублях на сберкнижку, — ответил Герасимов.
— В месяц? — ахнула теща.
— В месяц.
— Партия и правительство ничего не жалеют для своих сыновей, — сказал Артур Михайлович и сделал такой жест рукой, будто это он платил сыновьям из своего кармана.
— Так это сколько получается? — считало вслух краснолицее существо.
— Чеки у нас можно обменять по курсу один к двум, а то и один к трем, — пояснил Артур Михайлович.
— Это пятьсот сорок рублей! — восторженно воскликнула Элла.
— И еще плюс столько же в рублях! — не сдержала эмоций теща. — Ой, мне таких денег никогда не заработать, хоть я с утра и до вечера в поликлинике пропадаю.
— Это ж больше тысячи в месяц получается? — не веря в реальность, произнесла Элла и как-то странно взглянула на Герасимова. — А за год набежит… набежит…
— Двенадцать тысяч, — металлическим голосом объявило краснолицее существо.
— Да это ж целая машина «Волга» получается! — воскликнула теща и схватилась за сердце.
— Да, получается, — согласился Герасимов. — Если только не убьют.
Последняя его реплика была воспринята как нечто лживое, фальшивое, даже циничное, словом, неприличное до безобразия, отчего незаметно скривил губы Артур Михайлович и теща повела бровью, махнуло рукой краснолицее существо и напряженно улыбнулась Элла.
— Вас не убьют, — заверил Герасимова Артур Михайлович, наполняя свою рюмку. — Мы за вас молиться будем.
— Непременно, — сухо согласилась теща. — Только давайте не будем о грустном. Ни слова об этом Афганистане! Табу! Кому положить салат «Ренессанс»? Моя доча готовила. Пальчики облизать можно! Артур Михайлович? Ну хоть ложечку! Мне что, раздеться перед вами, чтобы вы согласились?
Большую часть жизни теща провела в стоматологических кабинетах, нависая над раскрытыми ртами пациентов. Большую часть своей жизни она высверливала темные, рыхлые, обломанные участки кариеса, расширяла буром полость, потом забивала ее при помощи шпателя цементом. И ничего она не слышала, кроме жалоб, свиста бормашины да клекота слюны в глотке. У нее не сложилась семейная жизнь, она не насытилась мужскими восторгами в свой адрес, недолюбила, недоцеловалась, недораздевалась. Ее угловая комната с двумя большими окнами и огромным трюмо была обвешана собственными фотопортретами эпохи давно ушедшей молодости. Элла встала под одним из таких портретов, разительно напоминая мать, но только прической и глазами, да еще разве что манерой говорить, спорить, привлекать к себе внимание и заискивать перед мужиками.
— Валера, я хочу тебе кое-что сказать, — произнесла она, когда застольный шум приглушила закрывшаяся дверь. — Давай договоримся: то, что было, прошло и никогда уже не вернется. Как сказала мама: будто ничего не было. Это отрезанный ломоть. Мы его выбросим и начнем жить заново.
— Да, — ответил Герасимов и притянул жену к себе. — Да… Мы начнем жить заново…
Он начнет жить заново в этом мире, где звон посуды лишь отчасти напоминает звуки операционной, где женщины видят кровь в дни месячных, а мужчины — когда порежутся бритвой; где о войне никто ничего не знает, знать о ней не хочет и даже слушать о ней не желает, ибо тот, кто говорит о ней, быстро и жестко отрывает себя от этого мира, опускает между собой и ним высоченный железный занавес, похожий на лезвие гильотины, и эту преграду не сковырнуть, не подкопать, не обрушить. Никогда, никому, ни слова, ни полслова не рассказывать о войне! Не поймут. Отдалятся. Возненавидят. Мир способен воспринять вернувшихся с войны лишь в гробах. Выжившие — все равно что воскресшие, снятые с креста. Ну как можно смотреть им в глаза, видеть пробитые гвоздями ладони и ноги, шрамы под ребрами, исполосованные плетьми спины? Как можно это видеть и после этого уважать себя? Но мы ведь тут тоже не икру ложками жрали! И не развлекались, и не забавлялись! Мы тоже, как и вы, мы тоже! И детей рожали, и кариесы высверливали, и в очередях стояли, каждую копейку считая, и, главное, ждали — а потому у нас тоже руки пробиты и головы увенчаны терновыми венками. Мы такие же, такие же, не спорь, не говори, не открывай рта, слушать не буду, уши заткну, глаза зажмурю, отвернусь, не было у тебя ничего, не было, не было, нет— нет-нет!
Ты чувствуешь, Герасимов, как отпускает, как слабеет хватка металлической клешни, что так долго сжимала твое сердце? Ты чувствуешь, как начинаешь оживать, и очистился горизонт твоей жизни, и он прозрачен, свеж, напоен светлым дождем? Ты чувствуешь, как на тебя снисходят золотые лучи? Не оглядывайся, отцепи от себя этот страшный якорь, выключи этот сводящий с ума грохот гусеничной техники, вертолетных лопастей, автоматных очередей, минометов, гаубиц; разбей динамик, из которого несутся треск и шипение команд, криков о помощи, монотонное, безнадежное, многочасовое повторение чьего-то позывного, зашифрованного имени, которое уже не числится в списках живых. Разве ты знаком со всеми этими далекими и безликими грызачами, власенками, ступиными, нефедовыми, шильцовыми, баклухами, думбадзами? Посмотри же в глаза жене!
— …посмотри мне в глаза, — попросила Элла. — Скажи, это было?
Она держала в руках лист. Строчки ровные. Слова разборчивые. Буквы — эталон каллиграфии.
«Уважаемая Элла Леонидовна! Как коммунист, я обязан поставить вас в известность, что ваш муж на протяжении одиннадцати месяцев сожительствует… политорганы обязаны строго следить за морально— нравственным обликом офицеров… я заверяю, что предприму все усилия для сохранения вашей семьи… будет строго наказан… неусыпный контроль со стороны товарищей и партийной организации… в соответствии с требованиями нравственного кодекса и коммунистической морали… Заместитель начальника политического отдела подполковник А. Куцый».
— Скажи, — произнесла Элла, медленно перегибая письмо пополам, а потом еще раз пополам. — Ведь этого не было? Не было, Валера? Ведь ничего не было, так ведь?
Ничего не было. Ничего. Ты права, Элла. Ты права, как твоя мама. Вы с ней засаживаете жизнь цветами и травами, чтобы головокружительный запах забил прогорклый запах дыма. Вы рассаживаете повсюду скрипачей и виолончелистов, чтобы они заглушили лязг гусениц. Была бы возможность — выстирали бы, выполоскали, выбелили бы хлоркой мозги.
— Во-первых, с сегодняшнего дня ты прекращаешь пить. Больше — ни капли. Все, хватит.
Элла рисует эскиз будущей жизни. Это одно сплошное солнце, облака и птицы.
— Во-вторых, ты увольняешься из армии. Артур Михайлович пообещал назначить тебя инструктором в обком комсомола. Ты не представляешь, какая нас ждет жизнь! У тебя будут служебная машина, спецпаек, квартира, путевки за границу, уважение, почет, власть… Тебе надо завтра же купить костюм и пойти на собеседование. Обязательно нацепи свой орден…
— Он не цепляется, Элла. Он привинчивается.
— Не придирайся к словам. Ты стал заносчивым. Не забывай, что пока ты там… пока ты там был, моя мама очень много для тебя сделала. А ты, между прочим, даже пустячного сувенира ей не привез. Ну ладно, забудем все обиды. Я не сержусь. И мама тоже. Мы тебя простили.
Строительство новой жизни идет бешеными темпами. Цветы вокруг распускаются прямо на глазах, со скрипом и скрежетом. Виолончелисты дрочат смычки до дыма.
— Еще надо распределить деньги, которые у тебя на книжке. Во-первых, заплатить маме за твое проживание здесь. Второе: купить шифоньер и стиральную машину — это пригодится в будущем, когда у нас появится бэби. Дальше: надо купить телевизор для маминого начальника, чтобы он отправил ее на переподготовку — тебе как афганцу в универмаге без очереди продадут…
Герасимов прислушался. Нет, уже почти не слышно, как кричит Ступин и скулит Курдюк… Сейчас все купим, родная. Сейчас весь мир купим!