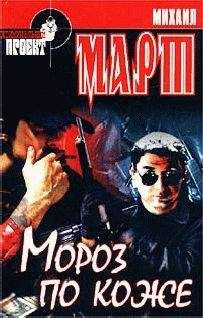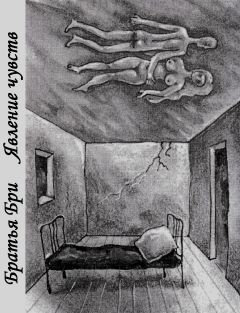Александр Проханов - «Контрас» на глиняных ногах
Она держалась за крестик, и, пока говорила, появлялись, вставали рядом с ней, цеплялись за юбку, прижимались к ее тощему, сгоревшему телу дети, мал мала меньше. И те, что спали в гамаках, проснулись без плача и молча таращили огромные, слезные, «лесные» глаза. Сумерки до самых дальних неосвещенных углов мерцали испуганными глазами, словно в стены трущобы были замурованы бесчисленные детские глаза. Белосельцеву стало худо. Ему показалось, что он теряет сознание, и он боялся ступать, боялся наступить подошвой на мерцающее из пола выпуклое детское око.
– Теперь вот сюда. – Француз приподымал рукой другой свисающий занавес, приглашая Белосельцева. – Здесь живет старик Илларио Руис. Все время молится. Говорят, что он ясновидец. Может на расстоянии видеть. Три его сына ушли в партизаны. Отсюда, далеко от них, он будто бы видел смерть двух старших. Один напал на солдатский пост, и в него попала пуля, когда он перепрыгивал какую-то изгородь. Другой укрывался в горах от самолета. Самолет стрелял в сына, а тот в него из винтовки. Самолет его разбомбил. Третий сын пока жив, воюет. Старик верит, что только он, отец, может уберечь последнего сына. Он все время на расстоянии не выпускает его из поля зрения. Если сыну грозит опасность, предупреждает его, посылает ему свои силы. Не спит, не приходит есть, а только стоит на коленях и следит за сыном. Говорит, если оставить сына без присмотра хоть на минуту, его могут тут же убить…
Белосельцев всматривался в полутьму, где спиной к нему, выставив черные растресканные ступни, шевеля острыми лопатками, стоял на коленях старик. На расколотом ящике была укреплена открыточка со Спасителем, горела лампадка из пузырька. Старик кланялся, припадал лбом к масленому огоньку, что-то бормотал. Белосельцев с трудом разобрал:
– Антонио, они тебя окружают!.. Ложись, Антонио!.. А теперь стреляй!.. Сейчас я тебе помогу!.. Вот так, Антонио!.. Теперь тебе легче, сынок?.. Беги к камням, они тебя там не достанут!..
Снова клонился лбом к разноцветной открытке, заслонял огонек растрепанной седой головой. Белосельцеву померещилось, что темную комнату прорезал луч, как от работающего киноаппарата, и на освещенном экране, среди перламутровых гор, по зеленому лесистому склону двигалась цепь солдат. Пикировал в блеске винтов самолет, оставляя клубы разрывов. Повстанцы прорывали кольцо окружения. Юноша, потный, горячий, уклонялся от фонтанчиков пуль, прятался за валун, лязгал затвором винтовки. Луч исходил из стариковского сердца, протягивался к юноше, питал его жаркой, спасительной, отцовской любовью.
– А вот здесь, – француз был поводырем, который вел Белосельцева по бесконечным кругам страданий, – здесь живет Флора Августина. Она душевнобольная. Заболела, когда потеряла своего жениха. Он партизанил в горах, собирался прийти в деревню венчаться. Она поджидала его в подвенечном платье. Дома готовили свадебный стол. Священник открыл деревенскую церковь. Но на пути в деревню жениха поймали солдаты, привязали к дереву и подожгли. Когда ей об этом сказали, она сошла с ума…
Им навстречу с топчана поднялась худенькая легкая девушка. Цепкая, быстрая, улыбалась, приплясывала, прихорашивалась, заглядывая в зеркальце. Вплетала в черные волосы алую ленточку. Хватала расколотую, без струн, гитару и что-то напевала. Колыхала бахромой изношенного подвенечного платья. Когда к ней вошли, она недовольно на них махнула:
– Ну пожалуйста, не торопите меня!.. Разве Карлос уже приехал?.. Падре Фелиппе пусть немного еще подождет… Видите, я почти собралась… Куда подевались мои красные бусы?.. Карлос просил меня надеть его любимые красные бусы!..
Она кокетливо поводила плечами, смотрела в зеркальце, надевала несуществующие бусы.
Белосельцев погружался в ее безумие. Видел корявое, одинокое, растущее на склоне дерево. Привязанного к нему жениха. Плеск из канистры. Потемневшую, отекающую бензином одежду. Трескучий красный взрыв с истошным, яростным, мгновенно затихающим воплем. Ощутил большой, во всю спину и грудь, ожог.
Советское оружие в корабельных трюмах переплывало через океан в Никарагуа, оснащало революционную армию. Сандинистский Фронт, не испрашивая разрешения СССР, часть военных поставок направлял в Сальвадор, где Фронт Фарабундо Марти воевал с «эскадронами смерти». Белосельцеву надлежало разведать способы переправки оружия, чтобы политики, боясь расширения конфликта, прекратили поставки. Но безумная, набеленная Флора ходила за ним по пятам, ловила в зеркальце несуществующее лицо жениха. Мария Хосефина, окруженная выводком черноглазых детей, накрывала их головы латаным фартуком, заслоняла от долбящего огнем самолета. И Белосельцев, забывая, что он разведчик, выполняющий волю политического руководства страны, желал, чтобы автоматы Калашникова, вороненые трубы гранатометов, зеленые клубни ручных гранат и ребристые противотанковые мины уходили тайным потоком в Гондурас, а оттуда к изумрудному склону вулкана Морасан, где вели сражение повстанцы.
Они прощались с французом, выходили к машине, а вслед из-за блеклой мешковины доносилось стариковское бормотание:
– Осторожно, мой мальчик!.. Они окружают тебя, Антонио!..
Они мчались по шоссе, которое, как пояснял Сесар, прежде называлось Сальваторитой, по имени сестры Сомосы, а теперь, в честь праздника родины, было переименовано в шоссе 19 июля. Солнечная долина с полосатыми черно-зелеными полями хлопчатника, с возделанными цитрусовыми плантациями прежде принадлежала латифундисту Акело Венерио, который бежал в Гондурас. Теперь же земля перешла под контроль государства, поля были утыканы флажками-ориентирами для сельскохозяйственных самолетов, и желтая, с пропеллером, стрекоза лихо пикировала, выпуская белую пудру.
Сесар включил приемник, и музыка, как разноцветная бабочка, как солнечный витраж, сверкающая, в переливах, в бесконечных узорах, прянула, затрепетала. На каждой волне звучали мужские, женские, страстные, томные, яростные, рокочущие голоса. Гремели барабаны, струны, тарелки, щелкали кастаньеты, звенели бубенцы. Казалось, весь континент от Мексики до Чили, каждый островок Карибского моря, каждый городок Коста-Рики и поселок Гондураса танцевали, плескали юбками, щелкали каблуками, играли яркими монистами на дышащей груди, топорщили из-под широкополых шляп черные усы. Умоляли, пленяли, кокетничали, пили ром и текилу, умирали от страсти. И не было войны, революции, американских эсминцев, приграничных перестрелок, а только вечный праздник, вечные румба, самба, ча-ча-ча, аргентинское танго. На волне Панамы томный голос, сладостно-приторный, как нектар, тягучий и благоухающий, как мед, пел о любви столь неодолимой и сильной, что поющий любовник был готов превратиться в кружевной подол платья, которого касались колени любимой, в туфельку, украшавшую маленькую ножку возлюбленной, в подушку, куда ночью опускалась ее голова с распущенными волосами, в цветок, распустившийся утром под ее окном.
Сесар притормозил у обочины, недалеко от развилки шоссе, пропуская мимо дымный тяжелый хлопковоз с клетью, набитой ватными клочьями. Достал термос. Отвинтил никелированную крышку. Налил в нее кофе с облачком душистого пара. Протянул Белосельцеву:
– Подкрепитесь, дорогой Виктор. В Саматильо мы пообедаем, а теперь для поднятия тонуса – глоток кофе.
– Благодарю. – Белосельцев принял из большой, осторожной руки Сесара горячий сосуд. С наслаждением пригубил густой, смоляной, переслащенный напиток, оставивший на языке горько-сладкий ожог. – Вы как заботливая нянюшка. Ухаживаете за своим воспитанником. Угощаете кофе. Возите его по разным интересным местам. Наставляете, учите уму-разуму.
– Нет, дорогой Виктор. Это я у вас должен учиться. Ваша революция старше нашей на целых шестьдесят лет.
– Значит, это я ваша нянюшка-бабушка, а вы мой внучек?
– Выходит так, Виктор. Наш личный возраст связан с возрастом нашей революции. Ваша революция самая старшая, умудренная. Она – как наша мать. Кубинская революция – наша старшая сестра. А революция в Сальвадоре – маленькая, грудная. Ее надо вскармливать.
– Поэтому вы направляете в Сальвадор оружие?
– Оружие – молоко революции. Мы вскармливаем нашу грудную сестренку.
Музыка, ликующая, радужная, сотканная из лучистых спектров, из шелковых лоскутьев, из пышных юбок, в которых топочет лакированными туфельками пышногрудая танцовщица, – радостная и яростная мелодия пьянила, волновала, порождала звенящий, счастливый ток крови, где вскипали жаркие пузырьки, и в каждом билась и сверкала огненная музыка.
– Эта дорога, – Сесар указал на асфальтовую трассу, уходившую в сторону, в голубую туманную низину, наполненную солнечной пыльцой, где едва различались золотисто-белые, в дымке, строения, – эта дорога на Саматильо. Там пообедаем, отдохнем. А эта, – он указал длинным, смуглым, остроконечным пальцем на ответвление трассы, ведущей к холмам с рыже-зелеными зарослями, – эта ведет в Гуасауле, к границе Гондураса. Там запретная зона, бои. Туда нам не следует ехать.