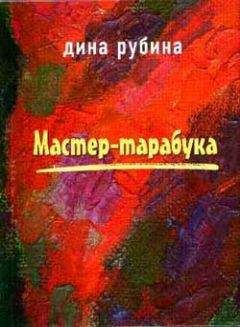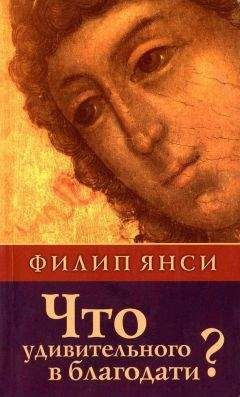Владимир Варшавский - Ожидание
Тут на мгновение я просыпаюсь. Голова болит как раз в том месте, где во сне у меня была рана на лбу. Снова засыпая, с облегчением думаю: это мне только приснилось, что я убит на дуэли, я никогда не умру.
* * *Любимый Лионский вокзал. Суетливая радостная толпа. Едут в отпуск отдыхать, плавать, любить. Я всегда уезжал с ожиданием счастья. Голос из громкоговорителя протяжно повторяет приглашение в дорогу: «Париж-Дижон-Лион-Средиземное море». Свисток. Маленький кругленький француз, с красным от вина лицом неловко чмокнув в щеку похожего на него молодого солдата, соскакивает с подножки. Я видел, перед тем, зная что так принято при расставании, он старался что-то сказать, но, не находя слов, только беспомощно разводил руками.
Поезд тронулся. В коридоре молодые мастеровые запели: «Au revoir, Paname, au revoir, Paname!»[3]
Когда вагон вышел из-под закопченного стеклянного навеса вокзала, я у видел, солнце уже зашло. Небо меркло, но было еще прозрачное, словно из тончайшего, освещенного изнутри фарфора. В бледно-сиреневом неземном сумраке бетонные столбы и водокачки бесшумно проходили в окне бесплотными, нежными, летейскими тенями. И чем дальше отодвигался Париж, тем прекраснее становилось над ним небо. Наступала ночь, а оно все продолжало светиться, не поддаваясь печали сгущавшейся темноты.
Действительность по-прежнему оставалась непостижимой и в своей непостижимости — призрачной и страшной. Но это медленно угасавшее небо было так прекрасно! Казалось, оно уравновешивает ужас бездыханного мира.
И все-таки ночь превозмогла. В окно больше ничего не видно. Только летят в кромешной тьме золотые искры. Неумолчный стук колес. Дремота.
Когда я очнулся, поезд стоял на незнакомой мне станции. На перроне редкие ночные пассажиры торопливо шарахаются к дверцам вагонов. Железнодорожники с фонарями переговариваются осипшими от тумана, уже не парижскими голосами.
В Лионе опять проснулся. В предрассветном тумане — широкая серая река. По берегам — такие же серые, угрюмые глыбы домов.
Перед Марселем пасмурный простор Этан де Бер. Я не мог понять: озеро, лиман? А за Марселем в окне все чаще стало показываться настоящее море. Я смотрел с волнением, будто в первый раз видел. Дивно сверкая на солнце, оно простиралось до самого неба — великое, прекрасное, чуждое всем волнениям человеческой жизни.
Потом пошли уже дачные места, кипарисы, пинии, смоковницы, виноградники, кирпично-красная земля. В открытые окна веял жаркий южный воздух. Здесь небо начиналось не как в городе за крышами домов, а сразу за окном — нагретая солнцем, светлая, радостная бездна.
На какой-то маленькой станции стояла на перроне молодая загорелая женщина, с купальным халатом на бессмертно круглой, как у греческой статуи, руке. Всегда снившийся мне земной Элизиум. Я подумал, не будь я так беден, я вернулся бы на эту станцию, объехал бы в поисках счастья все побережье.
* * *На море моя болезнь почти совсем прошла. Только один раз я испытал мое всегдашнее беспокойство. Я забыл на маленьком далеком пляже лопатку, которую одолжил у отельного служителя. Вспомнил только вечером. Это было неприятно: лопатка могла пропасть. Я сел в плоскодонку. Ночь выдалась совсем светлая. Лодка летела по глади залива. Слабый плеск, журчание. То тут, то там вспыхивают зыбкие, лунные блики. В отдалении они сливались в сотканную из расплавленного серебра, сверкающую дорогу. Она легла поперек моря, как драгоценное покрывало на голову и плечи прекрасной женщины. Чем ближе к небу, тем все шире расстиралась эта дорога, тем торжественнее и ярче горела, переливаясь живым сказочным огнем.
Я скоро догреб до пляжа, где забыл лопатку. Но я не узнавал места. Вода у берега совсем прозрачная, видно песчаное дно. Мне вдруг почудилось, берег движется, а лодка стоит над светлой бездной.
Обратно было трудно грести. Поднявшийся ветер гнал навстречу невысокие волны. Вздрагивая от их ударов, плоскодонка со стуком и плеском прыгала с гребня на гребень. Казалось, она совсем не продвигается. Сколько времени я уже греб, а пелена большого пляжа все так же неясно белела далеко впереди. Я греб изо всех сил. Меня не оставляло чувство моей потерянности в мире.
* * *Ездил в Монако. Великолепный, весь в белом полицейский, смотря на меня с непонятной враждебностью, неохотно объяснил как пройти в археологический музей.
Музей небольшой. На полках какие-то обглоданные человеческие головы, с длинными, будто приклеенными патлами. Казалось, в сгнивших глазницах еще тлеет злобный, безумный взгляд. В отдельном стеклянном ящике — мумия ребенка. Болезненно наморщенный лобик, кривая щель почти акульего рта, полного больших редких зубов.
Я прочел объяснительные надписи, но так и не понял, кто эти люди и когда они жили. Верно, в каменном веке. Смотря на их головы, я с содроганием думал о их жизни: всегда на чеку, всегда страх, всегда готовность к убийству. Но разве они виноваты? Не научись они убивать, их бы самих убивали и пожирали другие звери. У них не было выбора: или убивать, или погибнуть. А убивать нечем: ни клыков, ни когтей. Вот они и стали пользоваться всем, что попадет под руку: камнями, сучьями, костями больших животных. Потом научились мастерить топоры, копья, устраивать западни.
Первая голова на полке смотрела на меня настороженно. Она была больше других. Верно, вожак. Представив себе, как он, мой пещерный предок, убийца, отец цивилизации, таясь в засаде на рубеже территории своего родимого племени, подстерегал добычу или вражеских воинов, я чувствовал отвращение и скуку. А с него бы брать пример. Слабый, голый, без когтей, без клыков, он непрестанно подвергался опасностям ведь не только для того, чтобы выжить самому. Он добывал пропитание для своих самок и детенышей, охранял их от медведей, леопардов, драконов. Ему было не до гамлетовских вопросов. Инстинктивно зная, что прежде чем философствовать нужно жить, он мужественно и просто выполнял свое назначение защитника, добытчика, убийцы. Смотря на него теперь почти с дружеским чувством, я чуть не протянул руку, чтобы погладить его голову в клочьях собачьей шерсти. Мы, теперешние люди, вовсе не лучше. Под белым кителем того высокомерного полицейского, пусть он даже добрый малый, бьется сердце такого же убийцы, как этот наш далекий пращур. Я сам рожден убийцей. Но, — вероятно, следствие моей болезни, — мысль об убийстве вызывала во мне тоскливый ужас, нежелание жить.
После археологического музея пошел в аквариум. Вдоль стеклянной стенки по змеиному извиваются пятнистые лентообразные рыбы. Другие высовывались из гротов, качая головами, увенчанными омерзительными наростами. Они все время жадно открывали пасть. В стеклянных ящиках со спиртом — акулы разной величины.
С тех пор мне часто мерещилась скука бездонной кромешной ночи, где все живое кишело в свирепом сладострастии убийства и пожирания. Это природа так устроила. Эти гнусные рыбы-змеи не виноваты, что они такие. И акула не виновата, что она создана ненасытной и кровожадной. Чтобы жить, она должна убивать.
Как это могло быть, если жизнь сотворена Богом? Бог не мог этого хотеть. Как же тогда это произошло, что все живое обречено существовать за счет живого? Зла не должно быть, а оно проникает всю жизнь, оно в самом источнике жизни, неотъемлемая часть жизни. Все толкования догмата грехопадения меня не убеждали. Все это придумали, так как не могли объяснить откуда зло, если Бог всемогущ.
Я не верил богословским рассуждениям, но читая Нагорную проповедь, с удивлением чувствовал: это абсолютная, божественная Истина. Как ни странно, именно в том, что эта проповедь утверждала прямо противоположное тому, чему учили наглядные примеры борьбы за существование, я видел залог ее истинности. Пусть христианство по силам только немногим святым. Но все-таки значит есть этот «путь, ведущий в жизнь», в другое измерение бытия, более глубокое чем мир природы, где все подчинено закону борьбы и убийства.
* * *Я вернулся с купания. Сквозь щели деревянных ставен белая стена ослепительного света южного дня. Стаскивая тяжелые от воды и песка плавки, я чувствовал, как от долгого плавания мое тело стало соленым, по-морскому, по-тюленьи гладким, каким и должно быть тело у человека.
Почти одновременно мне вспомнился виденный ночью сон. Греясь на солнце, мы с братом лежим на высоком помосте на сваях, вбитых далеко от берега в морское дно. Так хорошо, такое счастье. Брат веселый, здоровый. И он совсем взрослый, каким бы он был теперь, если бы не умер много лет тому назад.
* * *Уже начинались осенние бури, когда пришло из Праги письмо от отца. Он настаивал, чтобы я возвращался в Париж продолжать учиться в Сорбонне. Он писал: «Если можешь, дай мне честное слово, поклянись мне, что добьешься получения диплома. Если я буду уверен в том, что ты доведешь начатое тобой дело до конца, мне легче будет существовать, и реже станут те тревожные и мучительные ночи, которые приходится проводить теперь!»